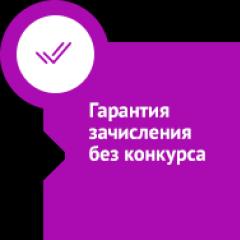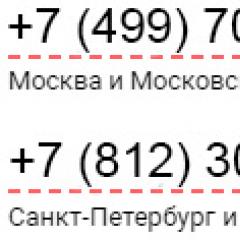Цивилизация есть опыт обуздания силы смысл. Ортега-и-Гассет
Только тот прогресс и только такие изменения, которые соответствуют человеческим интересам и находятся в пределах его способности к адаптации, имеют право на существование и должны поощряться.
Аурелио Печчей
В социальной основе современной техники производства есть опасность, что исходя из неё все поступки оцениваются лишь с точки зрения выполнения обязанностей и исчезает способность к цельным действиям.
Вилли Гельпах
Количественное различие между скоростью технического прогресса и медлительностью нашей нравственной рефлексии переходит в количественное отставание, не позволяющее нам понять окружающую действительность.
А. Паскуали
Ускоренная рационализация жизни постоянно ломает сложившиеся образы поведения и не даёт создать новые, отвечающие достоинству человека. Место канона, в котором огорожен путь в глубину, занимает шаблон, сменяемый модой каждые несколько лет.
Григорий Померанц
Такая сложная цивилизация, как наша, неизбежно строится на умении человека приспособиться к переменам, причин и характера которых он не понимает.
Фридрих Хайек
В двадцатом веке человек в среднем отстал от своей цивилизации – если ранее массовое (и, соответственно, массовое сознание) успевало осваивать новейшие достижения науки, то сегодня среднеграмотный человек по уровню своего образования живёт, вообще говоря, в прошлом веке.
Дмитрий Юрьев
В наши дни человек не в состоянии идти в ногу со своей собственной цивилизацией. Сравнительно образованные люди подходят к политическим и социальным вопросам сегодняшнего дня с тем самым запасом и методов, какие применялись двести лет назад для решения вопросов, в двести раз более простых.
Ортега и Гассет
Прогресс зашел так далеко, что потерял из виду людей.
Геннадий Малкин
Не надо смешивать цивилизацию с культурой… развитие цивилизации отодвигает культуру все более и более назад, игнорируя духовную сторону человека и отодвигая его к первобытному звериному прошлому.
Анатолий Кони
Нет ничего враждебнее культуре, чем цивилизация.
Владимир Эрн
Объединенный с альтруизмом индивидуализм стал основой нашей западной цивилизации.
Карл Поппер
Прогресс цивилизации состоит в расширении сферы действий, которые мы выполняем не думая.
Алфред Уайтхед
Мы богаче наших внуков на тысячи еще не изобретенных вещей.
Лешек Кумор
Цивилизация: эскимосы получают теплые квартиры и должны , чтобы купить холодильник.
Габриэль Лауб
Цивилизованное общество напоминает ребенка, который ко дню своего получил слишком много игрушек.
Джозеф Томсон
Цивилизация рождается стоиком и умирает эпикурейцем.
Уилл Дюрант
Современная цивилизация: обмен ценностей на удобства.
Станислав Лем
Главные вехи цивилизации: освоение огня, изобретение колеса и открытие, что можно приручить.
Макс Лернер
Мы вышли из пещер, но пещера еще не вышла из нас.
Антоний Регульский
Цивилизацию создают идиоты, а остальные расхлебывают кашу.
Станислав Лем
Мы были достаточно цивилизованны, чтобы построить машину, но слишком примитивны, чтобы ею пользоваться.
Карл Краус
Люди становятся орудиями своих орудий.
Генри Торо
Прогресс – не вопрос скорости, а вопрос направления.
Прогресс – это движение по кругу, но все более быстрое.
Леонард Луис Левинсон
Мир движется вперед со скоростью несколько гордиевых узлов в год.
Веслав Брудзиньский
Всякий прогресс основан на врожденной потребности всякого организма жить не по средствам.
Сэмюэл Батлер
Рост ради роста – идеология раковой клетки.
Эдуард Эбби
Прогресс есть замена одних неприятностей другими.
Хавлок Эллис
Прогресс, вероятно, был неплохой штукой, но больно уж он затянулся.
Огден Нэш
Если мы хотим создать новый мир, материал для него готов. Первый тоже был создан из хаоса.
Роберт Куиллен
Мы изменили свое окружение так радикально, что теперь должны изменять себя, чтобы жить в этом новом окружении.
Норберт Винер
Разумный человек приспособляется к миру; неразумный пытается приспособить мир к себе. Поэтому прогресс всегда зависит от неразумных.
Джордж Бернард Шоу
Мы приспосабливаем мир к себе, а потом никак не можем приспособиться к приспособленному миру.
Лешек Кумор
Мир нужно изменять, иначе он неконтролируемым образом начнет изменять нас самих.
Станислав Лем
Мы уже не верим в прогресс – разве это не прогресс?
Хорхе Луис Борхес
Цивилизация - это процесс сведения бесконечного к конечному.
Оливер Уэнделл Холмс-младший
Цивилизация - не состояние, а движение, не гавань, а .
Арнолд Тойнби
Цивилизация есть движение к обществу, в котором возможна частная жизнь. Цивилизация есть процесс освобождения человека от человека.
Эйн Ранд
Высшим достижением цивилизации являются люди, которые в состоянии ее вынести.
Тысяча шагов вперед, девятьсот девяносто восемь назад - вот что такое прогресс.
Анри Амьель
Каждое новое поколение - новое вторжение варваров.
Хёрви Ален
Наша цивилизация напоминает барочный дворец, в который ворвалась толпа оборванцев.
Николас Гомес Давила
Благодаря прогрессу мир стал так тесен, что все народы оказались на расстоянии выстрела друг от друга.
Цивилизованные нации всегда поражаются нецивилизованному поведению других цивилизованных наций.
Век машин: заменить цель скоростью.
Карел Чапек
Я , Всевышний сойдет с небес и оштрафует цивилизацию за превышение скорости.
Стивен Райт
Прогресс: вначале был простой стул, потом - электрический.
Владимир Голобородъко
Причина гибели цивилизаций - не убийство, а самоубийство,
Арнолд Тойнби
Нам нужен прогресс, но чтобы все оставалось как раньше.
«14, ООО Quips & Quotes»
Многие ученые склоняются к выводу, что будущее будет в точности таким же, как , только гораздо дороже.
Джон Слейдек
Варвары спасут цивилизацию, если им не помешают вандалы.
Аркадий Давидович
Трижды преступна хищническая цивилизация, не ведающая ни жалости, ни любви к твари, но ищущая от твари лишь своей корысти, движимая не желанием помочь природе проявить сокрытую в ней культуру, но навязывающая насильственно и условно внешние формы и внешние цели.
Павел Флоренский
Происходит явление, которое, к счастью или к несчастью, определяет современную европейскую жизнь. Этот феномен - полный захват массами общественной власти. Поскольку масса, по определению, не должна и не способна управлять собой, а тем более обществом, речь идет о серьезном кризисе европейских народов и культур, самом серьезном из возможных. В истории подобный кризис разражался не однажды. Его характер и последствия известны. Известно и его название. Он именуется восстанием масс.
Чтобы понять это грандиозное явление, надо стараться не вкладывать в такие слова, как «восстание», «масса», «власть» и т. д., смысл исключительно или преимущественно политический. Общественная жизнь - процесс не только политический, но вместе с тем и даже прежде того интеллектуальный, нравственный, экономический, духовный, включающий в себя обычаи и всевозможные правила и условности вплоть до манеры одеваться и развлекаться.
Быть может, лучший способ подойти к этому историческому феномену - довериться зрению, выделив ту черту современного мира, которая первой бросается в глаза.
Назвать ее легко, хоть и не так легко объяснить, - я говорю о растущем столпотворении, стадности, всеобщей переполненности. Города переполнены. Дома переполнены. Отели переполнены. Поезда переполнены. Кафе уже не вмещают посетителей. Улицы - прохожих. Приемные медицинских светил - больных. Театры, какими бы рутин-
Ortega у Gasset Jose. La rebelion de las masas. Ediciones de la Revista de Occidente. Madrid, 1975.
ными ни были спектакли, ломятся от публики. Пляжи не вмещают купальщиков. Становится вечной проблемой то, что прежде не составляло труда, - найти место.
Всего-навсего. Есть ли что проще, привычней и очевидней? Стоит, однако, вспороть будничную оболочку этой очевидности - и брызнет нежданная струя, в которой дневной свет, бесцветный свет нашего, сегодняшнего дня распахнет все многоцветие своего спектра.
Что же мы, в сущности, видим и чему так удивляемся Перед нами - толпа как таковая, в чьем распоряжении сегодня все, что создано цивилизацией. Слегка поразмыслив, удивляешься своему удивлению. Да что же здесь не так. Театральные кресла для того и ставятся, чтобы их занимали, чтобы зал был полон. С поездами и гостиницами обстоит так же. Это ясно. Но ясно и другое - прежде места были, а теперь их не хватает для всех жаждущих ими завладеть. Признав сам факт естественным и закономерным, нельзя не признать его непривычным; следовательно, что-то в мире изменилось, и перемены оправдывают, по крайней мере на первых порах, наше удивление.
Удивление - залог понимания. Это сила и богатство мыслящего человека. Поэтому его отличительный, корпоративный знак - глаза, изумленно распахнутые в мир. Все на свете незнакомо и удивительно для широко раскрытых глаз. Изумление - радость, недоступная футболисту, но она-то и пьянит философа на земных дорогах. Его примета - завороженные зрачки. Недаром же древние снабдили Минерву совой, птицей с ослепленным навеки взглядом.
Столпотворение, переполненность раньше не были повседневностью. Что же произошло?
Толпы не возникли из пустоты. Население было при мерно таким же пятнадцать лет назад. С войной оно могли лишь уменьшиться. Тем не менее напрашивается первый важный вывод. Люди, составляющие эти толпы, существовали и до них, но не были толпой. Рассеянные по миру маленькими группами или поодиночке, они жили, казалось, разбросанно и разобщенно. Каждый был на месте, и порой действительно на своем: в поле, в сельской глуши, на хуторе, на городских окраинах.
Внезапно они сгрудились, и вот мы повсеместно видим столпотворение. Повсеместно? Как бы не так! Не повсеместно, а в первом ряду, на лучших местах, облюбованных человеческой культурой и отведенных когда-то для узкого круга - для меньшинства.
Толпа, возникшая на авансцене общества, внезапно стала зримой. Прежде она, возникая, оставалась незаметной теснилась где-то в глубине сцены; теперь она вышла к рампе - и сегодня это главный персонаж. Солистов больше
нет - один хор.
Толпа - понятие количественное и визуальное: множество. Переведем его, не искажая, на язык социологии. И получим «массу». Общество всегда было подвижным единством меньшинства и массы. Меньшинство - это совокупность лиц, выделенных особыми качествами; масса - не выделенных ничем. Речь, следовательно, идет не только и не столько о «рабочей массе». Масса - это «средний чело- ; век». Таким образом, чисто количественное определение - множество - переходит в качественное. Это - совместное качество, ничейное и отчуждаемое, это человек в той мере, в какой он не отличается от остальных и повторяет общий тип.. Какой смысл в этом переводе количества в качество? Простейший - так понятней происхождение массы. До банальности очевидно, что стихийный рост ее предполагает совпадение мыслей, целей, образа жизни. Но не так ли обстоит дело и с любым сообществом, каким бы избранным оно себя ни считало? В общем, да. Но есть существенная разница.
В сообществах, чуждых массовости, совместная цель, идея или идеал служат единственной связью, что само по себе исключает многочисленность. Для создания меньшинства - какого угодно - сначала надо, чтобы каждый по причинам особым, более или менее личным, отпал от толпы. Его совпадение с теми, кто образует меньшинство, - это позднейший, вторичный результат особое™ каждого, и, таким образом, это во многом совпадение несовпадений. Порой печать отъединенности бросается в глаза: именующие себя «нонконформистами» англичане - союз согласных лишь в несогласии с обществом. Но сама установка - объединение как можно меньшего числа для отъединения от как можно большего - входит составной частью в структуру каждого меньшинства. Говоря об избранной публике на концерте изысканного музыканта, Малларме тонко заметил, что этот узкий круг своим присутствием демонстрировал отсутствие толпы.
В сущности, чтобы ощутить массу как психологическую реальность, не требуется людских скопищ. По одному единственному человеку можно определить, масса это или нет. Масса - всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не
мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, «как и i все», и не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью. Представим себе, что самый обычный человек, пытаясь мерить себя особой мерой-задаваясь вопросом, есть ли у него какое-то дарование, умение, достоинство, - убеждается, что нет никакого. Этот человек почувствует себя заурядностью, бездарностью, серостью. Но не «массой».
Обычно, говоря об «избранном меньшинстве», передергивают смысл этого выражения, притворно забывая, что избранные не те, кто кичливо ставит себя выше, но те, кто требует от себя больше даже есла требование -к себе у него сильно. И конечно, радикальней всего делить человечество на два класса: на тех, кто требует от себя многого и сам на себя взваливает тяготы и обязательства, и на тех, кто не требует ничего и для кого жить - это плыть по течению, оставаясь таким, каков ни на есть, и не силясь перерасти себя.
Это напоминает мне две ветви ортодоксального буддизма: более трудную и требовательную Махаяну - «большую колесницу», или «большой путь», -и более будничную и блеклую Хинаяну - «малую колесницу», «малый путь». Главное и решающее - какой колеснице мы вверим нашу жизнь.
Таким образом, деление общества на массы и избранные меньшинства типологическое и не совпадает ни с делением на социальные классы, ни с их иерархией. Разумеется, высшему классу, когда он становится высшим и пока действительно им остается, легче выдвинуть человека «большой колесницы», чем низшему, обычно и состоящему из людей обычных. Но на самом деле внутри любого класса есть собственные массы и меньшинства.. Нам еще предстоит убедиться, что плебейство и гнет массы даже в кругах, традиционно элитарных, - характерный признак нашего времени. Так, интеллектуальная жизнь, казалось бы взыскательная к мысли, становится триумфальной дорогой псевдоинтеллигентов, не мыслящих, немыслимых и ни в каком виде неприемлемых. Ничем не лучше останки «аристократии», как мужские, так и женские. И напротив, в рабочей среде, которая прежде считалась эталоном массы, не редкость сегодня встретить души высочайшего закала.
требуют тоже особых. Это касается и зрелищных или увеселительных программ, и программ политических и правительственных. Подобными делами всегда занималось опытное, искусное или хотя бы претендующее на искусность меньшинство. Масса ни на что не претендовала, прекрасно сознавая, что если она хочет участвовать, то должна обрести необходимое умение и перестать быть массой. Она знала свою роль в целительной общественной динамике.
Если вернуться теперь к изложенным выше фактам, они предстанут безошибочными признаками того, что роль массы изменилась. Все подтверждает, что она решила выйти на авансцену, занять места и получить удовольствия и блага, прежде адресованные немногим. Заметно, в частности, что места эти не предназначались толпе ввиду их малости, и вот она постоянно переполняет их, выплескиваясь наружу и являя глазам новое красноречивое зрелище - массу, которая, не перестав быть массой, упраздняет меньшинство.
Никто, надеюсь, не огорчится, что люди сегодня развлекаются с большим размахом и в большем числе, - пусть развлекаются, раз есть желание и средства. Беда в том, что эта решимость массы взять на себя функции меньшинства не ограничивается и не может ограничиться только сферой развлечений, но становится стержнем нашего времени. Забегая вперед, скажу, что новоявленные политические режимы, недавно возникшие, представляются мне не чем иным, как политическим диктатом масс. Прежде народовластие было разбавлено изрядной порцией либерализма и преклонения перед законом. Служение этим двум началам требовало от каждого большой внутренней дисциплины. Благодаря либеральным основам и юридическим нормам могли существовать и действовать меньшинства. Закон и демократия, узаконенное существование, были синонимами. Сегодня мы видим торжество гипердемократии, при которой масса действует непосредственно, вне всякого закона, и с помощью грубого давления навязывает свои желания и вкусы. Толковать эти перемены так, будто масса, устав от политики, препоручила ее профессионалам, неверно. Ничего подобного. Так делалось раньше, это и была демократия. Масса догадывалась, что в конце концов при всех своих изъянах и просчетах политики в общественных проблемах разбираются несколько лучше ее. Сегодня, напротив, она убеждена, что вправе давать ход и силу закона своим трактирным фанта-
зиям. Сомневаюсь, что когда-либо в истории большинству удавалось править так непосредственно, напрямую. Потому и говорю о гипердемократии.
То же самое творится и в других сферах, особенно в интеллектуальной. Возможно, я заблуждаюсь, но все же те, кто берется за перо, не могут не сознавать, что рядовой читатель, далекий от проблем, над которыми они бились годами, если и прочтет их, то не для того, чтобы чему-то научиться, а только для того, чтоб осудить прочитанное как несообразное с его куцыми мыслями. Масса- эта посредственность, и, поверь она в свою одаренность, имел бы место не крах социологии, а всего-навсего самообман. Особенность нашего времени в том и состоит, что заурядные души, не обманываясь насчет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду. Как говорят американцы, отличаться неприлично. Масса сминает непохожее, недюжинное и лучшее. Кто не такой, как все, кто думает не так, как все, рискует стать изгоем. И ясно, что «все» - это отнюдь не «все». Мир обычно был неоднородным единством
массы и независимых меньшинств. Сегодня весь мир стал массой»
Такова жестокая реальность наших дней, и такой я вижу ее, не закрывая глаз на жестокость.
II. Исторический подъем
Такова жестокая реальность, увиденная во всей ее жестокости. И к·роме того, невиданная прежде. Никогда еще наша цивилизация не переживала ничего похожего. Какое-то подобие можно найти только вне нашей истории, погружаясь в иную жизненную среду, во всем отличную от нашей, - в античный мир накануне упадка. История Римской империи тоже была историей ниспровержения, господства массы, которая поглотила правящее меньшинство и встала на его место. Возник феномен такой же стадности и скученности. Поэтому, как тонко подметил Шлснглср, здания стали гигантскими, наподобие наших. Эпоха масс - эпоха гигантомании1.
Мы живем под жестокой властью масс. Итак, я уже дважды назвал ее жестокой, отдал дань риторике, и те-
1 Трагично то, что с ростом этой скученности пустели села, и результатом было общее снижение численности имперского населения.
перь, расплатившись, можно с билетом в руке и с легким сердцем вторгаться в сюжет и видеть действие изнутри. Да и мог ли бы я довольствоваться такой прописью, пусть и верной, но беглой, - лишь одной стороной медали, где настоящее искажено обратной перспективой? Застрянь я на этом в ущерб моему исследованию, читатель решил бы - и с полным основанием, - что небывалое извержение масс на поверхность истории вдохновило меня лишь на пару враждебных и высокомерных фраз, частью брезгливых, частью возмущенных,-меня, известного своим сугубо аристократическим толкованием истории1. Подчеркиваю, что я никогда не призывал общество стать аристократичным. Я утверждал нечто большее и продолжаю твердить, день ото дня убежденней, что человеческое общество всегда, хочет оно того или нет, аристократично по самой своей сути, и, чем оно аристократичней, тем в большей степени оно общество, как и наоборот. Само собой, я говорю об обществе, а не о государстве. В немыслимом водовороте масс никого не обманет и не сойдет за аристократизм легкая гримаска версальского щеголя. Версаль - речь именно о таком, жеманном Версале-это не аристократия, а полный ее антипод; это смерть и разложение прославленного аристократизма. Оттого-то единственно аристократическим у этих господ было то пленительное достоинство, с которым они склоняли голову перед гильотиной - они смирялись с ней, как смиряется опухоль с ланцетом. Нет, того, кто ощутил исконное призвание аристократа, зрелище масс будит и воспламеняет, как девственный мрамор - скульптора. У такой аристократии нет ничего общего с тем узким и замкнутым кланом, который называет себя всеобъемлющим словом «общество», присвоив его как имя, и живет единственной заботой - быть или не быть туда принятым. У этого «изысканного мирка» есть и свои сподвижники в мире внешнем, есть у него, как у всего на свете, и свои достоинства, и свое назначение, но назначение второстепенное и несопоставимое с титаническим призванием подлинной аристократии. Я не считаю предосудительным говорить о смысле этой изысканной жизни, отнюдь не бессмысленной, но сейчас предмет разгоиора у нас иной и совсем иных масштабов. Да, кстати, и само это «избранное общество» следует духу времени. Я невольно задумался, когда одна юная и сверхсовременная дама, звезда первой величины в
1 См.: Espana iiiverlcbrada, 1921.
светском небе Мадрида, призналась мне: «Я не терплю балов, где меньше восьмисот приглашенных». Эта фраза удостоверила меня, что массовый вкус торжествует во всех сферах жизни и утверждается даже в таких ее заповедных углах, которые предназначены, казалось бы, для happy few *.
В общем, я отвергаю и такой взгляд на современность, когда в господстве масс не видят ни единого доброго знака, и противоположный, когда блаженно потирают руки, умудряясь не вздрагивать от страха. Судьба всегда драматична, и в ее глубинах вечно зреет трагедия. Кто не испытывал озноба перед угрозой времени, тот не проникал никогда в глубь судьбы и лишь касался ее нежной оболочки. Что же до нас, то эту тень угрозы несет нам сокрушительный и свирепый бунт массовой морали, неотвратимый, неодолимый и темный, как сама судьба. Куда он заведет? На беду он или на благо? Вот он, огромный, изначально двойственный, нависший над веком, как гигантский, космический вопросительный знак, в котором действительно что-то есть от гильотины или виселицы, но и что-то еще, готовое стать триумфальной аркой!
В том процессе, который предстоит анализировать, можно выделить два момента: во-первых, сегодня массы достигли жизненного уровня, подобного тому, который прежде казался предназначенным лишь для немногих; во-вторых, массы вышли из повиновения, не подчиняются никакому меньшинству, не следуют за ним и не только не считаются i с ним, но и вытесняют его и сами его замещают.
Начнем с первого утверждения. В нем говорится, что массы наслаждаются теми благами и пользуются теми достижениями, которые созданы избранным меньшинством и прежде принадлежали только ему. Стали массовыми те запросы и потребности, которые прежде считались утонченными, поскольку были достоянием немногих. Простой пример - в 1820 году в Париже не насчитывалось и десяти ванных комнат (см. мемуары графини де Буань). Больше того, сегодня массы довольно успешно овладевают и пользуются техникой, которая прежде требовала специалистов. И техникой, что особенно важно, не только материальной, но также юридической и социальной.
В XVIII веке определенные узкие круги открыли, что
Немногих счастливчиков (англ.). - Здесь и далее в тексте звездочкой выделены примечания переводчиков и редакции.
каждому человеку, без каких-либо оценок, один уже факт его появления на свет дает основные политические права, названные правами человека и гражданина, и что в действительности лишь эти всеобщие права и существуют. Все иные права, связанные с личными заслугами, осуждались · как привилегии. Вначале это было идеей немногих и чистой теорией, но вскоре эти немногие, лучшие из немногих, стали воплощать свою идею в жизнь, утверждать и отстаивать ее. Однако в течение всего XIX века масса, вдохновляясь идеей всеобщих прав как идеалом, за собой этих прав не чувствовала, не пользовалась и не дорожила ими, а продолжала жить и ощущать себя в условиях демократии так же, как и до нее. «Народ» - так теперь в духе времени именовали массу, - «народ» уже знал, что он властитель, но сам в это не верил. Лишь сегодня идеал осуществился - и не в законодательстве, в этом поверхностном чертеже общественной жизни, а в сердце каждого человека независимо от убеждений, включая убежденных реакционеров; другими словами - включая тех, кто крушит и вдребезги разносит устои, обеспечившие ему всеобщие права. Этот моральный настрой массы крайне любопытен, и, по-моему, не разобравшись в нем, нельзя понять происходящее. Приоритет человека вообще, без примет и отличий, человека как такового, превратился из общей идеи или правового идеала в массовое мироощущение, во всеобщую психологическую установку. Заметим, что идеал, осуществляясь, перестает быть идеалом. Притягательность и магическая власть над человеком, присущие идеалу, исчезают. Уравнительные права, рожденные благородным демократическим порывом, из надежд и чаяний превращаются в вожделения и бессознательные домогательства.
Все так, но ведь смысл равноправия в том и состоял, чтобы вызволить человеческие души из внутреннего рабства и уверить их в собственном достоинстве и могуществе. Чего добивались? Чтобы простой человек ощутил себя господином своей судьбы? Цель достигнута. На что же так сетуют уже третье десятилетие либералы, демократы, прогрессисты? Или они, как дети, любят резвиться и не любят ушибаться? Хотелось, чтобы рядовой человек стал господином? Нечего тогда удивляться, что он живет для себя и в \ свое удовольствие, что он твердо навязывает свою волю, ; что он не терпит подчинения и не подчиняется никому, что он поглощен собой и своим досугом, что он кичится своей экипировкой. Все это исконно господские черты.
Сегодн^ мы распознаем их в рядовом человеке, в массе.
Итз*^ в жизнь рядового человека вошло все то, что поежде отличало лишь самые верхи общества. Но рядовой человек и есть?? поверхность, над которой зыблется истооия каткой эпохи; в истории он то же самое, что уровень моря в географии. И если.еегодня-средний уровень достиг отметк^' которой прежде касались лишь аристократы, надо честно признать, что уровень истории внезапно поднялсд _ подземный процесс был долгим, но итог его стремительный. не дольше жизни одного поколения. Человеческая жизнь вся разом, пошла в гору. У рядовых современности много так сказать, командирского; человеческое войско сегодня -' сплошь офицеры. Достаточно видеть, как решительно, ловко и лихо каждый из них добивается успеха, срывает удовольствия и гнет свое.
Ce блага и все беды настоящего и ближайшего будущего берут истоки в этом общем подъеме исторического уровня.
Невольно напрашивается одна мысль. То, что средний
\/ YpoBeH&-%B3iffl.--aTO..y?QBeHb некогда.элитарный, ново для Европы» н0 исконно для Америки. Чтобы ясней понять меня обрейтесь к сознанию своего равноправия. То психологическое состояние, когда человек сам себе хозяин и равен любому другому, в Европе обретали немногие и лишь особо выдающиеся натуры, но в Америке оно бытовало с XV^I века - п0 'У™» изначально. И любопытное совпадений' Едва этот психологический настрой появился у рядового европейца, едва вырос общий его жизненный уровень как тут же стиль и облик европейской жизни повсеместно приобрели черты, заставившие многих говорить: «Европа американизируется». Говорившие так не придавали перс1^1131^ особого значения-они думали, что дело сводится к легкому подражанию чужим модам и нравам, и, дб^адутые внешним сходством, приписывали это бог весть какому американскому влиянию. И, на мой взгляд, упрощали проблему, которая гораздо глубже, тоньше и неординарней·
Из вежливости я мог бы сказать заокеанским гостям, что Европа действительно американизировалась и что причиной 'тому американское влияние. Но вежливость, увы, сталкивается с истиной и должна уступить. Европа не американизировалась. И даже не испытала заметного влияния Америк'· То и другое, возможно, происходит сегодня, но отсутствовало в недавнем прошлом, из которого это «сего-
дня» возникло. Досадный груз ложных представлений мешает нам разглядеть и американцев, и европейцев. Торжеством масс и последующим сказочным подъемом жизненного уровня Европа обязана двухвековому внутреннему процессу - материальному обогащению общества, воспитанного прогрессистами. Но результат совпал с первостепенной чертой американского развития, и лишь по той причине, что моральное самочувствие рядового европейца совпало с американским, европейцу впервые стал понятен американский образ жизни, прежде для него темный и загадочный. Суть, таким образом, не в постороннем влиянии, не в чем-то отраженном, а гораздо неожиданней - суть в уравнивании.
Европейцы всегда смутно чувствовали, что средний уровень жизни в Америке выше, чем у них. Чувство, не слишком отчетливое, но очевидное, приводило к мысли, общепринятой и не подлежащей сомнению, что Америка - это будущее. Понятно, что столь расхожее и упорное мнение не занесено ветром, подобно орхидее, способной, по слухам, расти без корней. Его укрепляло именно это чувство превосходства среднего уровня заокеанской жизни, особенно ощутимое при большей состоятельности европейской элиты сравнительно с американской. Но история, как земледелие, зависит от долин, а не от пиков, от средних отметок общественной жизни, а не от перепада высот.
Мы живем в эпоху уравнивания - уравниваются богатства, уравнивается культура, уравнивается слабый и сильный пол. И точно так же уравниваются континенты. А поскольку европеец жизненно обретался ниже, от этой нивелировки он только выиграл. Под таким углом зрения нашествие масс выглядит как небывалый прилив жизненных сил и возможностей - вопреки всему, что твердят нам о закате Европы. Само это выражение темно и топорно, да и неясно, что имеется в виду - европейские государства, европейская культура или то, что подспудней и бесконечно важней, а именно европейская жизненная сила. Что до государственности и культуры, о них еще зайдет речь - и, возможно, упомянутое выражение вполне пригодится, - но что касается жизненной энергии, то налицо грубейшая ошибка. Быть может, изложенное иначе, мое утверждение покажется более убедительным или хотя бы менее неправдоподобным: я утверждаю, что сегодня рядовой итальянец, рядовой испанец, рядовой немец по своему жизненному то-
нусу меньше отличаются от янки или аргентинца, чем тридцать лет назад. И американцам не следует забывать это обстоятельство.
III. Высота времени
Итак, у господства масс есть и лицевая сторона медали, которая знаменует собой всеобщий подъем исторического уровня и означает, что обыденная жизнь сегодня выше вчерашней отметки. Это заставляет признать, что у жизни бывают разные высотные отметки, и вспомнить выражение, которое от бессмысленного употребления отнюдь не утратило смысла. Остановимся на нем, поскольку это поможет выявить одну неожиданную черту нашей эпохи.
Нередко, например, приходится слышать, что то или другое явление не на высоте своего времени. В самом деле, не абстрактное хронологическое время, линейное и ровное, а время живое, насущное, о котором каждое поколение говорит «наше время», всегда достигает какой-то высоты, сегодня превышает вчерашнюю, или удерживается на ней, или падает еще ниже. Ощущением этого и рожден образ падения - упадок. Точно так же каждый в отдельности с большей или меньшей остротой ощущает, насколько его жизнь соотносится с высотой выпавшего на его долю времени. И есть те, кто в современном мире чувствует себя утопающим, бессильным выбраться на поверхность. Быстрота, с которой все меняется, энергия и напор, с которыми все совершается, угнетают людей архаического склада, и степень угнетенности - это мера разлада их жизненного ритма с ритмом эпохи. С другой стороны, в сознании тех, кто охотно и полно живет настоящим, высота своего времени как-то соотносится с прежними временами. Как именно?
Неправда, что прошлое ниже настоящего лишь оттого, что оно прошло. Вспомним, что для Хорхе Манрике, как ему «мнилось», Всегда времена былые Лучше, чем наши.
Но и это неправда. Не всегда настоящее ставилось ниже старины, и не всегда оно представлялось выше всего, что прошло и запомнилось. Высота, достигнутая жизнью, каждой эпохой ощущалась по-своему, и странно, что историки и философы прошли мимо столь очевидного и важного факта.
То чувство, которое выразил Манрике, явно преобладало, по крайней мере если брать его grosso modo*. Чаще всего свое время не казалось лучшим. Наоборот, лучшими временами, пределом жизненной полноты представлялась человеку смутная древность: «золотой век», как говорим мы, вскормленные античностью; альчеринга, как говорят австралийские аборигены. Это свидетельствовало, что людям пульс их жизни казался вялым, недостаточно сильным и упругим, чтобы наполнить вены. Оттого они чтили старину, «славное» прошлое, когда жизнь - не в пример их собственной - была обильной, полной, бурной и прекрасной. Глядя вспять и воображая те счастливые времена, они смотрели на них не свысока, а, напротив, - снизу вверх, как смотрел бы температурный столбик, обладай он сознанием, на градус, которого недобрал, потому что не хватило калорий. Ощущение, что жизнь опускается, мельчает, съеживается, что пульс ее слабеет, с середины II века после Рождества Христова стало охватывать Римскую империю. Еще Гораций восклицал: «Наши отцы, недостойные дедов, еще худших отцов породили для недостойнейшего потомства» (Оды, книга III, 6).
Aetas parentum peior avis tulit nos nequiores, mox daturos progeniem vitiosorem.
Два века спустя в империи уже не хватало достаточно храбрых италиков, чтобы занять места центурионов, и для этого пришлось нанимать далматов, а затем дунайских и рейнских варваров. Женщины тем временем обесплодели, а Италия обезлюдела.
Есть, однако, эпохи иного и, казалось бы, совершенно противоположного склада, опьяненные своим жизнеощущением. Речь идет о любопытном феномене, который крайне важно уяснить. Когда лет тридцать назад политики витийствовали перед толпой, они обычно клеймили очередной промах или произвол правительства словами: «Это недостойно нашего времени». Любопытно, что Траян в знаменитом письме Плинию, предписывая не преследовать христиан по анонимным доносам, употребил ту же самую фразу: Nee nostri saeculi est. Следовательно, есть эпохи, которые чувствуют себя вознесенными на абсолютную и предельную высоту, времена, которые представляются ис-
В общих чертах, в целом (итал.).
ходом, исполнением надежд и свершением вековых устремлений. Это-«совершенное время», окончательная зрелость исторического бытия. Действительно, тридцать лет назад европейцы верили, что жизнь человечества становится наконец такой, какой она должна стать, какой мечтали ее видеть многие поколения и какой она останется навсегда. Совершенное время ощущает себя зенитом, вершиной стольких эпох несовершенных, предварительных, пробных, ступенька за ступенькой ведущих к этой зрелой полноте. С вершины кажется, что все предшествующее жило единственно лишь бесплотной мечтой и несбыточной надеждой, что это были времена неутоленной жажды, пламенных упований, вечного «доколе» и жестокого разлада мечты с явью. Таким виделось XIX веку Средневековье. И вот настает день, когда вековые, иногда тысячелетние чаяния, похоже, исполняются - жизнь вобрала их в себя и следует их воле. Мы на желанной вершине, у заветной цели, в зените времени! Вечное «доколе» преобразилось в «наконец-то».
Таким было жизнеощущение наших отцов и всего их века. Нельзя это забывать, ибо время миновало зенит. И у всех, кто душою там, в такой недавней полноте прошлого, наше время при взгляде на него с высокой колокольни должно неизбежно рождать иллюзию заката и упадка.
Но тому, кто искушен в истории, трезво вслушивается в ее пульс и не ослеплен воображаемой полнотой, обман зрения не грозит.
Как уже было сказано, самое существенное для «совершенного време*ни» - это удовлетворение давних нужд, тяжко и горестно длившихся веками и наконец-то утоленных. В результате такие времена испытывают чувство удовлетворенности, они довольны собой, а порой даже, как XIX век, слишком самодовольны1. Но теперь-то мы видим, что эти времена, такие довольные, такие успешные, внутренне мертвы. Не в довольстве, не в успехе, не в достигнутой гавани истинная полнота жизни. Еще Сервантес говорил: «Дорога всегда лучше привала». Время, утолившее свою жажду, свою мечту, не ждет больше ничего, по-
1 Надписи на монетах, отчеканенных при Адриане, единодушны: «Italia felix. Saeciilum aiireum. Tellns stabilita. Temporum felicitas» («Счастливая Италия. Золотой век. Прочный мир. Счастливые времена»). Кроме большого нумизматического каталога Коэна, отдельные монеты воспроизведены у Гостопцева в «The social and economic history' of the Roman Empire», 1926, табл. LU и с. 588, прим. 6.
тому что истоки его стремлений иссякли. Иными словами, пресловутая полнота - это в действительности развязка. Есть эпохи, которые бессильны обновить свои запросы и умирают от удовлетворенности, как умирает после брачного полета довольный трутень!.
Надо ли удивляться, что времена упомянутой полноты неизменно таят на дне характерный осадок особой, присущей им унылости.
Мечтой, так долго остававшейся подспудной и лишь в XIX веке как будто бы воплощенной, было то, что емко само себя окрестило «современной культурой». Определение настораживает. Время именует себя «современностью», то есть окончательной и полной завершенностью, для которой все иные времена - прошедшие, все они лишь подступы и порывы к ней! Жалкие, вслепую пущенные стрелы!2
Не здесь ли прослеживается граница между нашим и таким недавним, но уже вчерашним днем? В самом деле, наше время не чувствует себя окончательным - напротив, в основе его лежит ощущение, что времен окончательных, надежных, раз навсегда установленных не бывает, а притязания жизненного уклада, именуемого «современной культурой», на окончательность нам кажутся непонятным ослеплением и крайней узостью кругозора. И мы облегченно чувствуем, что вырвались из тесного и безвыходного загона в бескрайний звездный мир, настоящий, грозный, непредсказуемый и неистощимый, где все возможно, все - от наилучшего до наихудшего.
Вера в современную культуру была унылой: безрадостно знать, что завтрашний день в основном повторит сегодняшний, что прогресс - это шаг за шагом по дороге, неотличимой от уже пройденной. Такая дорога больше смахивает на эластичную тюрьму, которая растягивается, как резина, не выпуская на волю.
Когда в молодой еще империи какой-нибудь одаренный провинциал - скажем, Лукан или Сенека - попадал в
1 Перечтите удивительные страницы Гегеля о временах довольства в его «Философии истории».
2 Исходное значение слова «современность», которым нарекло себя время, предельно выражает обрисованное мною ощущение «зенита». Современно то, что соответствует времени, воспринятому как совершенно новое, как такое настоящее, которое идет вразрез со всем устоявшимся, традиционным и оставленным далеко позади. Слово «современный», таким образом, заключает в себе понятие новой жизни, превосходящей прежнюю, и требование быть на высоте времени. Не быть «современным» равносильно падению, утрате исторического уровня.
Рим и видел величественные имперские сооружения, сердце его сжималось. Ничего нового не могло уже произойти в мире. Рим был вечен. И если есть уныние руин, нависшее над ними, как туман над болотом, то чуткий провинциал ощущал такой же тяжкий гнет, но с обратным знаком - уныние вечных стен.
Сравнительно с этим не выглядит ли наше мироощущение шумной радостью детей, сбежавших из школы? Одному богу известно, что будет завтра, и это тайно радует нас, потому что лишь в открытой дали, где все нежданно, все возможно, и есть настоящая жизнь, подлинная полнота жизни.
Такая картина - разумеется, половинчатая - расходится с теми слезливыми жалобами на упадок, которыми изводят нас писания современников. Дело тут в обмане зрения, у которого много причин. О них поговорим позже, а сейчас упомяну лишь самую явную. Следуя идеологии, на мой взгляд рискованной, в истории видят только политику или культуру, не замечая, что это лишь поверхность, а глубинная реальность истории - прежде всего биологическая мощь, нечто от энергии космической: чистейшая жизненная сила, если не тождественная, то родственная той, что движет моря, плодит земную тварь, раскрывает цветы и зажигает звезды.
Предлагаю диагностам упадка следующие соображения.
Упадок, бесспорно, понятие сравнительное. Падают сверху вниз, из высшего состояния в низшее. А сравнивать можно с разных и каких угодно точек зрения. Для изготовителя янтарных мундштуков мир явно в упадке, поскольку мундштуками уже не пользуются. Возможны точки зрения поосновательней, но оттого они не становятся менее частными, произвольными и сторонними той жизни, чье достоинство придирчиво оценивают. Есть лишь одна оправданная и естественная точка зрения - окунуться в жизнь и, увидев ее изнутри, судить, ощущает ли она себя упадочной, то есть немощной, пресной и скудной.
Но как распознать, даже при взгляде изнутри, ощущает себя жизнь упадочной или нет? Решающий признак для меня бесспорен: ту жизнь, которая не завидует никакой другой и, следовательно, из всех, когда-либо бывших, предпочитает себя, никоим образом нельзя всерьез называть упадочной. К этому и вели мои рассуждения о «высоте своего времени». Ибо именно нашему выпало жизне-
ощущение редкостное и, насколько могу судить, небывалое в истории.
В салонах прошлого века неминуемо наступала минута, когда дамы и дамские поэты задавали друг другу фатальный вопрос: «В какие времена вам хотелось бы жить?» И вот каждый, взвалив на плечи муляж собственной жизни, пускался мысленно бродить по дорогам истории в поисках эпохи, где данный слепок пришелся бы как нельзя кстати. А это значит, что пресловутый девятнадцатый век, при всем сознании своего совершенства - а может быть, в силу такого сознания, - был неотделим от прошлого, чьи плечи ощущал под собой; по сути, он видел в себе осуществленное прошлое. Отсюда его вера в образцовые, пусть и с оговорками, времена - век Перикла, Ренессанс - те, что готовили ему почву. И отсюда наша недоверчивость к эпохам свершений: полуобернутые вспять, они движутся с оглядкой на прошлое, которое осуществляют.
А теперь задайте упомянутый вопрос человеку вполне современному. Готов поручиться, что прошлые века, все без исключения, показались бы ему тесным загоном, где трудно дышать. Значит, сегодняшний человек ощущает в себе больше жизни, чем ощущали встарь, или, другими словами, все прошлое целиком, от начала до конца, слишком мало для современного человечества. Такое жизнеощущение сводит на нет все рассуждения об упадке.
Прежде всего наша жизнь чувствует себя огромней любой другой. Какой уж тут упадок? Наоборот, чувство превосходства лишает ее уважения и даже внимания к былому. Впервые в истории возникает эпоха без эталонов, которая не видит позади ничего образцового, ничего приемлемого для себя, - прямая наследница стольких веков, она тем не менее похожа на вступление, на рассвет, на детство. Мы озираемся, и прославленный Ренессанс нам кажется провинциальным, узким, кичливым и - что греха таить - вульгарным.
Все это мне уже довелось подытожить так: «Жестокий разрыв настоящего с прошлым - главный признак нашей эпохи, и похоже, что он-то и вносит смятение в сегодняшнюю жизнь. Мы чувствуем, что внезапно стали одинокими, что мертвые умерли всерьез, навсегда и больше не могут нам помочь. Следы духовной традиции стерлись. Все примеры, образцы, эталоны бесполезны. Все проблемы, будь то в искусстве, науке или политике, мы должны решать только в настоящем, без участия прошлого. Лишенный сво-
их бессмертных мертвых, европеец одинок; подобно Петеру Шлемилю, он утратил тень. Именно это случается в полдень»!.
Какова же в итоге высота нашего времени? Это не зенит, и тем не менее такого ощущения высоты не было никогда. Нелегко определить, какой видит себя наша эпоха: она и убеждена, что выше всех, и одновременно чувствует себя началом, и не уверена, что это не начало конца. Как бы это выразить? Может быть, так: она выше любой другой и ниже самой себя. Она могуча и не уверена в себе. Горда и напугана собственной мощью.
IV. Рост жизни
Захват власти массами и возросшая вслед за ним высота времени - в свою очередь лишь следствия одной общей причины. Причина почти гротескная и неправдоподобная в явной своей и привычной очевидности. Просто-напросто мир нежданно вырос, а в нем и вместе с ним выросла и жизнь. Прежде всего, она стала планетарной; я хочу сказать, что жизнь рядового человека вмещает сегодня всю планету, что простой смертный привычно обживает весь мир. Год с небольшим назад севильцы, раскрыв газету, шаг за шагом прослеживали путь полярников; над раскаленными бетийскими пашнями дрейфовали льды. Каждая пядь земли уже не вмещается в топографические рамки и влияет на жизнь в любой точке планеты. А поскольку физика расположение, тел Определяет по их воздействию, следует любую точку планеты признать вездесущей. Эта близость дальнего, доступность недоступного фантастически раздвинула жизненный горизонт каждого человека.
Но мир вырос и во времени. Археология чудовищно расширила историческое пространство. Империи и целые цивилизации, о которых мы вчера еще не подозревали, входят в наше сознание, как новые континенты. Экраны и журналы доносят эту незапамятную древность до глаз обывателя.
Само по себе это пространственно-временное расширение мира не значило бы ровным счетом ничего. Физические пространство и время-вселенский абсурд. И в том культе скорости, который ныне исповедуют, больше смыс
1 См. мою работу «Дегуманизация искусства».
ла, чем принято думать. Скорость так же бессмысленна, как ее слагаемые - пространство и время, - но она их упраздняет. Глупость можно обуздать лишь большей глупостью. Победа над космическим пространством и временем, полностью лишенными смысла, стала для человека делом, чести1, и неудивительно, что мы по-детски радуемся бесплодной скорости, с помощью которой истребляем пространство и сводим на нет время. Упраздняя, мы оживляем их, делаем житейски пригодными, позволяющими большее число мест обживать, легче менять их и вбирать больше физического времени в меньший жизненный отрезок.
Но существенно даже не то, что мир увеличился в размерах; существенней, что в мире всего стало больше. Всего, что можно придумать, пожелать, создать, разрушить, найти, употребить или отвергнуть - что ни глагол, то сгусток жизненной активности.
Возьмем самое житейское - например, покупку. Представьте, что два человека, один - в наши дни, а другой - в XVIII веке, владеют одинаковым, соответственно ценам обеих эпох, состоянием, и сравните ассортимент товаров, доступных тому и другому. Разница почти фантастическая. Возможности современного покупателя выглядят практически безграничными. Трудно вообразить вещь, которой не было бы на прилавках, и наоборот - невозможно вообразить все, что там есть. Могут возразить, что при соответственно одинаковом достатке человек и в наши дни купит не больше, чем в XVIII веке. Но это не так. Промышленность удешевила стоимость едва ли не всех изделий. Впрочем, не это меня занимает, и я постараюсь объясниться.
С точки зрения жизненной активности купить означает облюбовать товар; это прежде всего выбор, а выбор начинается с обзора возможностей, предложенных торговлей. Отсюда следует, что такой вид жизнедеятельности, как купля, заключается в проигрывании вариантов, в самой возможности купить. Говоря о жизни, обычно забывают самое, на мой взгляд, существенное: наша жизнь - это всегда и прежде всего уяснение возможного. Если бы всякий раз нам представлялась одна-единственная возможность, само это слово утеряло бы смысл. То была бы чистейшая
1 Именно потому, что срок жизни ограничен, именно потому, что люди смертны, они и спешат одолеть, обрести все, что дается слишком долго и слишком поздно. Господу, вечно сущему, автомобиль ни к чему.
неизбежность. Но таково уж удивительное и коренное свойство нашей жизни, что у нее всегда несколько дорог, и перепутье принимает облик возможностей, из которых мы должны выбирать!. Жить означает то же самое, что попасть в орбиту определенных возможностей. Эту среду привычно именуют «обстоятельствами». Жить - значит очутиться в кругу обстоятельств - или в мире. Таков изначальный смысл понятия «мир». Это совокупность наших жизненных возможностей - и не что-то отделенное и стороннее нашей жизни, но ее внешний контур. Он охватывает все, чем мы можем стать, нашу жизненную потенцию. Но для своего осуществления ей надо определиться - обрести пределы; другими словами, мы становимся лишь малой долей того, чем могли бы стать. Поэтому мир нам кажется таким огромным, а мы в нем - такими крохотными. Мир, или наша возможная жизнь, неизбежно больше нашей участи, или жизни действительной.
Сейчас я хочу лишь показать, насколько жизнь потенциально стала больше. Сфера ее возможностей шире, чем когда-либо. В области мысли сегодня больше простора для появления идей, больше проблем, больше фактов, больше знаний, больше точек зрения. Если в первобытной жизни занятия можно пересчитать по пальцам - охотник, пастух, воин, колдун, - то сегодня перечень профессий нескончаем. То же самое с развлечениями, хотя разнообразие здесь и не так велико, как в остальных сферах жизни, - и это обстоятельство гораздо серьезней, чем кажется. Тем не менее для рядового горожанина - а город и есть олицетворение современности - возможность получить удовольствие выросла в нашем веке небывало.
Но рост жизненной силы не сводится к вышеперечисленному. Она выросла в самом прямом и загадочном смысле. Общеизвестно и даже привычно, что в атлетике и спорте performances* сегодня намного выше всего ранее известного. Стоит обратить внимание не только на новые рекорды, но и на то ощущение, которое рождает их частота, убеждая нас ежечасно, что сегодня у человеческого организма больше возможностей, чем было когда-либо. Ведь нечто похожее происходит и в науке. За какие-нибудь десять лет она немыслимо раздвинула границы Вселенной.
1 Даже в самом наихудшем случае, когда жизнь сужается до одногоединственного выхода, всегда есть и второй - уход из жизни. Но ведь уход из жизни - такая же часть ее, как дверь - часть дома.
Достижения (франц.).
Физика Эйнштейна обитает в таком обширном пространстве, что на долю старой ньютоновской физики там приходится лишь тесный закуток1. И обязано это экстенсивное развитие столь же экстенсивному развитию научной точности. физика Эйнштейна рождена вниманием к таким минимальным различиям, какими раньше пренебрегали ввиду их незначительности. Наконец, атом, вчерашний предел мыслимого мира, сегодня раздулся до размеров планетной системы. Упоминая все это, я говорю не о росте и превосходстве культуры, в данный момент меня не интересующей, но о росте индивидуальных способностей, которым она обязана. Я подчеркиваю не то, что физика Эйнштейна точней ньютоновой, а то, что Эйнштейн как человек способен на большую точность и духовную свободу2, чем Ньютон, - подобно тому как сегодняшний чемпион по боксу наносит удары с большей силой, чем когда-либо.
Пока фильмы и фотографии развлекают рядового человека самыми недоступными ландшафтами, газеты и репродукторы приносят ему новости об упомянутых интеллектуальных performances, наглядно подтвержденных витринным блеском технических новинок. Все это копит в его сознании ощущение сказочного всемогущества.
Я не хочу этим сказать, что человеческая жизнь сегодня лучше, чем в иные времена. Я говорю не о качестве жизни, а о ее напоре, о ее количественном или потенциальном росте. Я надеюсь таким образом поточнее обрисовать мироощущение современного человека, его жизненный тонус, обусловленный сознанием небывалых возможностей и кажущимся инфантилизмом минувших эпох.
Это необходимо, чтобы опровергнуть разглагольствования об упадке, и прежде всего упадке европейском, кото-
^ Вселенная Ньютона была бесконечной, но бесконечность ее бессодержательна - это голое обобщение, пустая и бесплодная утопия. Вселенная Эйнштейна конечна, но конкретна и содержательна в каждой своей точке - следовательно, в нее больше вместилось, и в итоге она протяженнее.
2 Духовная свобода, то есть интеллектуальная мощь, измеряется способностью разделять понятия, традиционно нераздельные. Разделение понятий требует больше сил, чем их ассоциация, как показал Келер в его иследованиях интеллекта шимпанзе. Никогда еще человеческий разум не обладал такой способностью разъединять, как сейчас.
рыс отравили воздух последнего десятилетия. Вспомните соображение, которое я предлагал и которое кажется мне таким же простым, как и очевидным. Не стоит заговаривать об упадке, не уточнив, о каком. Касается ли этот пессимизм культуры? Европейская культура в упадке? Или в упадке лишь европейские национальные институты? Предположим, что так. Дает ли это право говорить о европейском упадке? Только отчасти. В том и другом случаях упадок частичен и касается вторичных продуктов истории - культуры и нации. Есть лишь один всеобъемлющий упадок - утрата жизнеспособности, - а существует он лишь тогда, когда ощущается. Поэтому и пришлось мне рассматривать феномен, мало кем замеченный, - осознание или ощущение каждой эпохой своего жизненного уровня.. ---
Как было сказано, одни эпохи чувствуют себя «в зените», а другим, напротив, кажется, что они утратили высоту и скатились к подножию древнего и блистательного «золотого века». И в заключение я отметил очевиднейший факт: нашему времени присуще редкостное чувство превосходства над любыми другими эпохами; больше того-оно не приводится с ними к общему знаменателю, равнодушно к ним, не верит в образцовые времена и считает себя совершенно новой и высшей формой жизни.
Думаю, что нельзя, не опираясь на это, понять наше время. Именно здесь его главная проблема. Если бы оно ощущало упадок, то смотрело бы на прошлое снизу вверх и потому считалось с ним, восхищалось им и чтило его заветы. У нашего времени были бы ясные и четкие цели, хоть и не было бы сил достичь их. Действительность же прямо противоположна: мы живем в эпоху, которая чувствует себя способной достичь чего угодно, но не знает, чего именно. Она владеет всем, но только не собой. Она заблудилась в собственном изобилии. Больше, чем когда-либо, средств, больше знаний, больше техники, а в результате мир как никогда злосчастен - его сносит течением.
Отсюда то странное, двойственное чувство всесилия я неуверенности, что гнездится в современной душе. К ней применимо сказанное регентом о малолетнем Людовике XV: «Налицо все таланты, кроме одного-умения ими пользоваться». Многое казалось уже невозможным XIX веку, твердому в своей прогрсссистской вере. Сегодня, когда
все нам кажется возможным, мы догадываемся, что возможно также и наихудшее: регресс, одичание, упадок1. Признак сам по себе неплохой - он означает, что мы снова соприкасаемся с изначальной уязвимостью жизни, с той мучительной и сладкой тревожностью, которую таит каждое мгновение, если оно прожито до конца, до самой своей трепетной и кровоточащей сути. Обычно мы сторонимся этого пугающего трепета, от которого любое безобидное мгновение становится крохотным летучим сердцем; ради безопасности мы силимся стать бесчувственными к извечному драматизму нашей судьбы, прибегая к наркозу рутины и косности. И поистине это благотворно, что впервые за три века мы застигнуты врасплох и не ведаем, что будет с нами завтра.
Всякий, кто относится к жизни нешуточно и считает себя полностью ответственным за нее, не может не испытывать известного рода тревогу, которая заставляет его быть начеку. Римский устав предписывал часовому держать палец на губах, чтобы оставаться бдительным и не поддаться дремоте. Жест неплох и словно подчиняет ночную тишину еще большему безмолвию, чтобы уловить тайные шаги грядущего. Эпохи свершений - и в их числе девятнадцатый век - в беспечном ослеплении не опасались будущего, приписав ему законы небесной механики. И либерализм прогрессистов, и социализм Маркса равно предполагали, что желаемый, а значит, наилучший вариант будущего осуществится неукоснительно, с почти астрономической предрешенностью. Видя в этой идее свое самооправдание, они выпускали из рук руль истории, теряли бдительность, утрачивали маневренность и везучесть. И жизнь, ускользнув от них, окончательно отбилась от рук и побрела куда глаза глядят. Под личиной прогрессиста крылось равнодушие к будущему, неверие ни в какие внезапные перемены, загадки и превратности, убеждение, что мир движется по прямой, неуклонно и непреложно, утрачивая тревожность будущего и окончательно оставаясь в настоящем. Недаром кажется, что в мире уже перевелись идеалы, предвидения и планы. Никого они не заботят. Такова вечная изнанка истории - когда масса восстает, ведущее меньшинство разбегается.
1 Отсюда и возникает ощущение упадка. Причина не в том, что мы находимся в упадке, а в том, что мы готовы ко всему, не исключая упадка.
Пора, однако, вернуться к водоразделу, обозначенному господством масс. С освещенного благодатного склона переберемся теперь на другую сторону, теневую и куда более опасную.
V. Статистическая справка
В этой работе я хотел бы угадать недуг нашего времени, нашей сегодняшней жизни. И первые результаты можно обобщить так: современная жизнь грандиозна, избыточна и превосходит любую исторически известную. Но именно потому, что напор ее так велик, она вышла из берегов и смыла все завещанные нам устои, нормы и идеалы. В ней больше жизни, чем в любой другой, и по той же причине больше нерешенного1. Ей надо самой творить свою собственную судьбу.
Но диагноз пора дополнить. Жизнь - это прежде всего наша возможная жизнь, то, чем мы способны стать, и как выбор возможного - наше решение, то, чем мы действительно становимся. Обстоятельства и решения - главные слагаемые жизни. Обстоятельства, то есть возможности, нам заданы и навязаны. Мы называем их миром. Жизнь не выбирает себе мира, жить - это очутиться в мире определенном и бесповоротном, сейчас и здесь. Наш мир - это предрешенная сторона жизни. Но предрешенная не механически. Мы не пущены в мир, как пуля из ружья, по неукоснительной траектории. Неизбежность, с которой сталкивает нас этот мир - а мир всегда этот, сейчас и здесь, - состоит в обратном. Вместо единственной траектории нам задается множество, и мы, соответственно, обречены... выбирать себя. Немыслимая предпосылка! Жить - значит вечно быть осужденным на свободу, вечно решать, чем ты станешь в этом мире. И решать без устали и без передышки. Даже отдаваясь безнадежно на волю случая, мы принимаем решение - не решать.
Неправда, что в жизни «решают обстоятельства». Напротив, обстоятельства - это дилемма, вечно новая, которую надо решать. И решает ее наш собственный склад.
Все это применимо и к общественной жизни. У нее, во-первых, есть тоже горизонт возможного и, во-вторых, 1 Научимся, однако, извлекать из прошлого если не позитивный, то хотя бы негативный опыт. Прошлое не надоумит, что делать, но подскажет, чего избегать.
решение в выборе совместного жизненного пути. Решение зависит от характера общества, его склада или, что одно и то же, от преобладающего типа людей. Сегодня преобладает масса, и решает она. И происходит нечто иное, чем в эпоху демократии и всеобщего голосования. При всеобщем голосовании массы не решали, а присоединялись к решению того или другого меньшинства. Последние предлагали свои «программы» - отличный термин. Эти программы - по сути, программы совместной жизни - приглашали массу одобрить проект решения.
Сейчас картина иная. Всюду, где торжество массы растет, например в Средиземноморье, при взгляде на общественную жизнь поражает то, что политически там перебиваются со дня на день. Это более чем странно. У власти - представители масс. Они настолько всесильны, что свели на нет саму возможность оппозиции. Это бесспорные хозяева страны, и нелегко найти в истории пример подобного всевластия. И тем не менее государство, правительство живут сегодняшним днем. Они не распахнуты будущему, не представляют его ясно и открыто, не кладут начало чему-то новому, уже различимому в перспективе. Словом, они живут без жизненной программы. Не знают, куда идут, потому что не идут никуда, не выбирая и не прокладывая дорог. Когда такое правительство ищет самооправданий, то не поминает всуе день завтрашний, а, напротив, упирает на сегодняшний и говорит с завидной прямотой: «Мы - чрезвычайная власть, рожденная чрезвычайными обстоятельствами». То есть злобой дня, а не дальней перспективой. Недаром и само правление сводится к тому, чтобы постоянно выпутываться, не решая проблем, а всеми способами увиливая от них и тем самым рискуя сделать их неразрешимыми. Таким всегда было прямое правление массы - всемогущим и призрачным. Масса - это те, кто плывет по течению и лишен ориентиров. Поэтому массовый человек не созидает, даже если возможности и силы его огромны.
И как раз этот человеческий тип сегодня решает. Право же, стоит в нем разобраться.
Ключ к разгадке - в том вопросе, что прозвучал уже в начале моей работы: откуда возникли все эти толпы, захлестнувшие сегодня историческое пространство?
Не так давно известный экономист Вернер Зомбарт указал на один простой факт, который должен бы впечатлить каждого, кто озабочен современностью. Факт сам по
себе достаточный, чтобы открыть нам глаза на сегодняшнюю Европу, по меньшей мере обратить их в нужную сторону. Дело в следующем: за многовековый период своей истории, с VI по XIX, европейское население ни разу не превысило ста восьмидесяти миллионов. А за время с 1800 по 1914 год-за столетие с небольшим-достигло четырехсот шестидесяти! Контраст, полагаю, не оставляет сомнений в плодовитости прошлого века. Три поколения подряд человеческая масса росла как на дрожжах и, хлынув, затопила тесный отрезок истории. Достаточно, повторяю, одного этого факта, чтобы объяснить триумф масс и все, что он сулит. С другой стороны, это еще одно, и притом самое ощутимое, слагаемое того роста жизненной силы, о котором я упоминал.
Эта статистика, кстати, умеряет наше беспочвенное восхищение ростом молодых стран, особенно Соединенных Штатов. Кажется сверхъестественным, что население США за столетие достигло ста миллионов, а ведь куда сверхъестественней европейская плодовитость. Лишнее доказательство, что американизация Европы иллюзорна. Даже самая, казалось бы, отличительная черта Америки - ускоренный темп ее заселения - не самобытна. Европа в прошлом веке заселялась куда быстрей. Америку создали европейские излишки.
Хотя выкладки Вернера Зомбарта и не так известны, как они того заслуживают, сам загадочный факт заметного прироста европейцев слишком очевиден, чтобы на нем задерживаться. Суть не в цифрах народонаселения, а в их контрастности, вскрывающей внезапный и головокружительный темп роста. Речь идет о нем. Головокружительный рост означает все новые и новые толпы, которые с таким ускорением извергаются на поверхность истории, что не успевают пропитаться традиционной культурой.
И в результате современный средний европеец душевно здоровей и крепче своих предшественников, но и душевно беднее. Оттого он порой смахивает на дикаря, внезапно забредшего в мир вековой цивилизации. Школы, которыми так гордился прошлый век, внедрили в массу современные технические навыки, но не сумели воспитать ее. Снабдили ее средствами для того, чтобы жить полнее, но не смогли наделить ни историческим чутьем, ни чувством исторической ответственности. В массу вдохнули силу и спесь современного прогресса,'но забыли о духе. Естественно, она и не помышляет о духе, и новые поколения, желая править
миром, смотрят на него как на первозданный рай, где нет ни давних следов, ни давних проблем.
Славу и ответственность за выход широких масс на историческое поприще несет XIX век. Только так можно судить о нем беспристрастно и справедливо. Что-то небывалое и неповторимое крылось в его климате, раз вызрел такой человеческий урожай. Не усвоив и не переварив этого, смешно и легкомысленно отдавать предпочтение духу иных эпох. Вся история предстает гигантской лабораторией, где ставятся все мыслимые и немыслимые опыты, чтобы найти рецепт общественной жизни, наилучшей для культивации «человека». И, не прибегая к уверткам, следует признать данные опыта: человеческий посев в условиях либеральной демократии и технического прогресса - двух основных факторов - за столетие утроил людские ресурсы Европы.
Такое изобилие, если мыслить здраво, приводит к ряду умозаключений: первое - либеральная демократия на базе технического творчества является высшей из доныне известных форм общественной жизни; второе - вероятно, это не лучшая форма, но лучшие возникнут на ее основе и сохранят ее суть и третье - возвращение к формам низшим, чем в XIX веке, самоубийственно.
И вот, разом уяснив себе все эти вполне ясные вещи, мы должны предъявить XIX веку счет. Очевидно, наряду с чем-то небывалым и неповторимым имелись в нем и какие-то врожденные изъяны, коренные пороки, поскольку он создал новую касту людей - мятежную массу, и теперь она угрожает тем основам, которым обязана жизнью. Если этот человеческий тип будет по-прежнему хозяйничать в Европе и право решать останется за ним, то не пройдет и тридцати лет, как наш континент одичает. Наши правовые и технические достижения исчезнут с той же легкостью, с какой не раз исчезали секреты мастерства1. Жизнь съежится. Сегодняшний избыток возможностей обернется беспросветной нуждой, скаредностью, тоскливым бесплодием. Это
1 Герман Вейль, один из крупнейших физиков современности, последователь и соратник Эйнштейна, говорил в частной беседе, что, если бы определенные люди, десять или двенадцать человек, внезапно умерли, чудо современной физики оказалось бы навеки утраченным для человечества. Столетиями надо было приспосабливать человеческий мозг к абстрактным головоломкам теоретической физики. И любая случайность может развеять эти чудесные способности, от которых зависит и вся техника будущего.
будет неподдельный декаданс. Потому что восстание масс и есть то самое, что Ратенау назвал «вертикальным вторжением варваров».
Поэтому так важно вглядеться в массового человека, в эту чистую потенцию как высшего блага, так и высшего зла.
VI. Введение в анатомию массового человека
Кто он, тот массовый человек, что главенствует сейчас в общественной жизни, политической и неполитической? Почему он таков, каков есть, иначе говоря, как он получился таким?
Оба вопроса требуют совместного ответа, потому что взаимно проясняют друг друга. Человек, который намерен сегодня возглавлять европейскую жизнь, мало похож на тех, кто двигал девятнадцатый век, но именно девятнадцатым веком он рожден и вскормлен. Проницательный ум, будь то в 1820, 1850 или 1880 годах, простым рассуждением a priori мог предвосхитить тяжесть современной исторической ситуации. И в ней действительно нет ровным счетом ничего, не предугаданного сто лет назад. «Массы надвигаются!» - апокалиптически восклицал Гегель. «Без новой духовной власти наша эпоха - эпоха революционная-кончится катастрофой»,-предрекал Огюст Конт. «Я вижу всемирный потоп нигилизма!» - кричал с энгадинских круч усатый Ницше. Неправда, что история непредсказуема. Сплошь и рядом пророчества сбывались. Если бы грядущее не оставляло бреши для предвидений, то и впредь, исполняясь и становясь прошлым, оно оставалось бы непонятным. В утверждении, что историк - пророк наоборот, заключена вся философия истории. Конечно, можно провидеть лишь общий каркас будущего, но ведь и в настоящем или прошлом это единственное, что, в сущности, доступно. Поэтому, чтобы видеть свое время, надо смотреть с расстояния. С какого? Достаточного, чтобы не различать носа Клеопатры.
Какой представлялась жизнь той человеческой массе, которую в изобилии плодил XIX век? Прежде всего и во всех отношениях - материально доступной. Никогда еще рядовой человек не утолял с таким размахом свои житейские запросы. По мере того как таяли крупные состояния и ужесточалась жизнь рабочих, экономические перспективы среднего слоя становились день ото дня все шире. Каждый
день вносил лепту в его жизненный standard. С каждым днем росло чувство надежности и собственной независимости. То, что прежде считалось удачей и рождало смиренную признательность судьбе, стало правом, которое не благословляют, а требуют. С 1900 года и рабочий начинает ширить и упрочивать свою жизнь. Он, однако, должен за это бороться. Благоденствие не уготовано ему заботливо, как среднему человеку, обществом и на диво слаженным государством.
Этой материальной доступности и обеспеченности сопутствует житейская - confort и общественный порядок. Жизнь катится по надежным рельсам, и столкновение с чем-то враждебным и грозным мало представимо.
Столь ясная и распахнутая перспектива неминуемо должна копить в недрах обыденного сознания то ощущение жизни, которое метко выражено нашей старинной поговоркой: «Широка Кастилия!»* А именно - во всех ее основных и решающих моментах жизнь представляется новому человеку лишенной преград. Это обстоятельство и его важность осознаются сами собой, если вспомнить, что прежде рядовой человек и не подозревал о такой жизненной раскрепощенности. Напротив, жизнь была для него тяжкой участью - и материально, и житейски. Он с рождения ощущал ее как скопище преград, которые обречен терпеть, с которыми принужден смириться и втиснуться в отведенную ему щель.
Контраст еще отчетливей, если от материального перейти к аспекту гражданскому и моральному. С середины прошлого века средний человек не видит перед собой никаких социальных барьеров. С рождения он и в общественной жизни не встречает рогаток и ограничений. Никто не принуждает его сужать свою жизнь. И здесь - «широка Кастилия». Не существует ни «сословий», ни «каст». Ни у кого нет гражданских привилегий. Средний человек усваивает как истину, что все люди узаконенно равны.
Никогда за всю историю человек не знал условий, даже отдаленно похожих на современные. Речь действительно идет о чем-то абсолютно новом, что внес в человеческую судьбу XIX век. Создано новое сценическое пространство для существования человека, - новое и в материальном, и в социальном плане. Три начала сделали возможным этот
Ободряющее восклицание, отчасти схожее с русским: «Гуляй, душа!»
новый мир: либеральная демократия, экспериментальная наука и промышленность. Два последних фактора можно объединить в одно понятие - техника. В этой триаде ничто не рождено XIX веком, но унаследовано от двух предыдущих столетий. Девятнадцатый век не изобрел, а внедрил, и в том его заслуга. Это прописная истина. Но одной ее мало, и надо вникнуть в ее неумолимые последствия.
Девятнадцатый век был революционным по сути. И суть не в живописности его баррикад - это всего лишь декорация, - а в том, что он поместил огромную массу общества в жизненные условия, прямо противоположные всему, с чем средний человек свыкся ранее. Короче, век перелицевал общественную жизнь. Революция - не покушение на порядок, но внедрение нового порядка, дискредитирующего привычный. И потому можно без особых преувеличений сказать, что человек, порожденный девятнадцатым столетием, социально стоит особняком в ряду предшественников. Разумеется, человеческий тип восемнадцатого века отличен от преобладавшего в семнадцатом, а тот - от характерного для шестнадцатого века, но все они в конечном счете родственны, схожи и по сути даже одинаковы, если сопоставить их с нашим новоявленным современником. Для «плебея» всех времен «жизнь» означала прежде всего стеснение, повинность, зависимость, одним словом - угнетение. Еще короче - гнет, если не ограничивать его правовым и сословным, забывая о стихиях. Потому что их напор не слабел никогда, вплоть до прошлого века, с началом которого технический прогресс - материальный и управленческий - становится практически безграничным. Прежде даже для богатых и могущественных земля была миром нужды, тягот и риска1.
Тот мир, что окружает нового человека с колыбели, не только не понуждает его к самообузданию, не только не ставит перед ним никаких запретов и ограничений, но, напротив, непрестанно бередит его аппетиты, которые в принципе могут расти бесконечно. Ибо этот мир девятнадцатого и начала двадцатого века не просто демонстрирует свои бесспорные достоинства и масштабы, но и внушает
1 При любом относительном богатстве сфера благ и удобств, обеспеченных им, была крайне сужена всеобщей бедностью мира. Жизнь среднего человека сегодня много легче, изобильней и безопасней жизни могущественнейшего властителя иных времен. Какая разница, кто кого богаче, если богат мир и не скупится на автострады, магистрали, телеграфы, отели, личную безопасность и аспирин?
своим обитателям - и это крайне важно - полную уверенность, что завтра, словно упиваясь стихийным и неистовым ростом, мир станет еще богаче, еще шире и совершенней. И по сей день, несмотря на признаки первых трещин в этой незыблемой вере, по сей день, повторяю, мало кто сомневается, что автомобили через пять лет будут лучше и дешевле, чем сегодня. Это так же непреложно, как завтрашний восход солнца. Сравнение, кстати, точное. Действительно, видя мир так великолепно устроенным и слаженным, человек заурядный полагает его делом рук самой природы и не в силах додуматься, что дело это требует усилий людей незаурядных. Еще трудней ему уразуметь, что все эти легко достижимые блага держатся на определенных и нелегко достижимых человеческих качествах, малейший недобор которых незамедлительно развеет прахом великолепное сооружение.
Пора уже наметить первыми двумя штрихами психологический рисунок сегодняшнего массового человека: эти две черты - беспрепятственный рост жизненных запросов и, следовательно, безудержная экспансия собственной натуры и второе - врожденная неблагодарность ко всему, что сумело облегчить ему жизнь. Обе черты рисуют весьма знакомый душевный склад - избалованного ребенка. И в общем можно уверенно прилагать их к массовой душе как оси координат. Наследница незапамятного и гениального былого - гениального по своему вдохновению и дерзанию, - современная чернь избалована окружением. Баловать - это значит потакать, поддерживать иллюзию, что все дозволено и ничто не обязательно. Ребенок в такой обстановке лишается понятий о своих пределах. Избавленный от любого давления извне, от любых столкновений с другими, он и впрямь начинает верить, что существует только он, и привыкает ни с кем не считаться, а главное - никого не считать лучше себя. Ощущение чужого превосходства вырабатывается лишь благодаря кому-то более сильному, кто вынуждает сдерживать, умерять и подавлять желания. Так усваивается важнейший урок: «Здесь кончаюсь я и начинается другой, который может больше, чем я. В мире, очевидно, существуют двое: я и тот, другой, кто выше меня». Среднему человеку прошлого мир ежедневно преподавал эту простую мудрость, поскольку был настолько неслаженным, что бедствия не кончались и ничто не становилось надежным, обильным и устойчивым. Но для новой массы все возможно и даже гарантировано - и
все наготове, без каких-либо предварительных усилий, как солнце, которое не надо тащить в зенит на собственных плечах. Ведь никто никого не благодарит за воздух, которым дышит, потому что воздух никем не изготовлен - он часть того, о чем говорится «это естественно», поскольку это есть и не может не быть. А избалованные массы достаточно малокультурны, чтобы всю эту материальную и социальную слаженность, безвозмездную, как воздух, тоже считать естественной, поскольку она, похоже, всегда есть и почти так же совершенна, как и природа.
Мне думается, сама искусность, с какой XIX век обустроил определенные сферы жизни, побуждает облагодетельствованную массу считать их устройство не искусным, а естественным. Этим объясняется и определяется то абсурдное состояние духа, в котором пребывает масса: больше всего ее заботит собственное благополучие и меньше всего - истоки этого благополучия. Не видя в благах цивилизации ни изощренного замысла, ни искусного воплощения, для сохранности которого нужны огромные и бережные усилия, средний человек и для себя не видит иной обязанности, кроме как убежденно домогаться этих благ единственно по праву рождения. В дни голодных бунтов народные толпы обычно требуют хлеба, а в поддержку требований, как правило, громят пекарни. Чем не символ того, как современные массы поступают - только размашистей и изобретательней - с той цивилизацией, что их питает?1
1 Для брошенной на собственный произвол массы, будь то чернь или «знать», жажда жизни неизменно оборачивается разрушением самих основ жизни. Бесподобным гротеском этой тяги - propter vifain, vitae perdere causas («ради жизни утратить смысл жизни» (лат.) [Ю в е и а л. Сатиры, VIII, 84.]) - мне кажется происшедшее в Нихаре, городке близ Альмерии, 13 сентября 1759 года, когда был провозглашен королем Карлос III. Торжество началось на площади: «Затем ведено было угостить все собрание, каковое истребило 77 бочонков вина и четыре бурдюка водки и воодушевилось настолько, что со многими здравицами двинулось к муниципальному складу и там повыбрасывало из окон весь хлебный запас и 900 реалов общинных денег. В лавках учинили то же самое, изничтожив, во славу празднества, все, что было там съестного и питейного. Духовенство не уступало рвением и громко призывало женщин выбрасывать на улицу все, что ни есть, и те трудились без малейшего сожаления, пока в домах не осталось ни хлеба, ни зерна, ни муки, ни крупы, ни мисок, ни кастрюль, ни ступок, ни пестов и весь сказанный город не опустел» (документ из собрания доктора Санчеса де Тока, приведенный в книге Мануэля Данвила «Правление Карлоса III», том II, с. 10, прим. 2: D a n v i l M. Reinado de Carlos III, t. II, p. 10, nota 2). Сказанный город в угоду монархическому ажиотажу истребил себя. Блажен Нихар, ибо за ним будущее!
II. Жизнь высокая и низменная, или рвение и рутина
Мы прежде всего то, что творит из нас мир, и главные свойства нашей души оттиснуты на ней окружением. Это неудивительно, ибо жить означает вживаться в мир. Общий дух, которым он встречает нас, передается нашей жизни. Именно поэтому я так настойчиво подчеркиваю, что ничего похожего на тот мир, которым вызваны к жизни современные массы, история еще не знала. Если прежде для рядового человека жить означало терпеть лишения, опасности, запреты и гнет, то сегодня он чувствует себя уверенно и независимо в распахнутом мире практически безграничных возможностей. На этом неизменном чувстве, как некогда на противоположном, основан его душевный склад. Это ощущение главенствует, оно становится внутренним голосом, который из недр сознания невнятно, но непрестанно подсказывает формулу жизни и звучит императивом. И если прежде он привычно твердил: «Жить - это чувствовать себя стесненным и потому считаться с тем, что стесняет», - то теперь он торжествует: «Жить - это не чувствовать никаких ограничений и потому смело полагаться на себя; все практически дозволено, ничто не грозит расплатой, и вообще никто никого не выше».
Эта внушенная опытом вера целиком изменила привычный, вековой склад массового человека. Стесненность и зависимость ему всегда казались его природным состоянием. Такой, на его взгляд, была сама жизнь. Если удавалось улучшить свое положение, подняться вверх, он считал это подарком судьбы, которая лично к нему оказалась милостивой. Или приписывал это не столько удаче, сколько собственным неимоверным усилиям, и хорошо помнил, чего они ему стоили. В любом случае речь шла об исключении из общего миропорядка, и каждое такое исключение объяснялось особыми причинами.
Но для новой массы природным состоянием стада полная свобода действий, узаконенная и беспричинная. Ничто внешнее не понуждает к самоограничению и, следовательно, не побуждает постоянно считаться с кем-то, особенно с кем-то высшим. Еще не так давно китайский крестьянин верил, что его благоденствие зависит от тех сугубых достоинств, которыми изволит обладать император. И жизнь постоянно соотносилась с тем высшим, от чего она зависела.
Но человек, о котором ведется речь, приучен не считаться ни с кем, помимо себя. Какой ни на есть, он доволен собой. И простодушно, без малейшего тщеславия, стремится утвердить и навязать себя - свои взгляды, вожделения, пристрастия, вкусы и все, что угодно. А почему бы и нет, если никто и ничто не вынуждает его увидеть собственную второсортность, узость и полную неспособность ни к созиданию, ни даже к сохранению уклада, давшего ему тот жизненный размах, который и позволил самообольщаться?
Массовый человек, верный своей природе, не станет считаться ни с чем, помимо себя, пока нужда не заставит. А так как сегодня она не заставляет, он и не считается, полагая себя хозяином жизни. Напротив, человек недюжинный, неповторимый внутренне нуждается в чем-то большем и высшем, чем он сам, постоянно сверяется с ним и служит ему по собственной воле. Вспомним, чем отличается избранный от заурядного человека - первый требует от себя многого, второй в восторге от себя и не требует ничего 1. Вопреки ходячему мнению служение - удел избранных, а не массы. Жизнь тяготит их, если не служит чему-то высшему. Поэтому служение для них не гнет. И когда его нет, они томятся и находят новые высоты, еще недоступней и строже, чтобы ввериться им. Жизнь как испытание - это благородная жизнь. Благородство определяется требовательностью и долгом, а не правами. Noblesse oblige*. «Жить как хочется - плебейство, благородны долг и верность» (Гёте).-Привилегии изначально не жаловались, а завоевывались. И держались на том, что дворянин, если требовалось, мог в любую минуту отстоять их силой. Личные права - или privl-legios - это не пассивное обретение, а взятый с бою рубеж. Напротив, всеобщие права - такие, как «права человека и гражданина»,-обретаются по инерции, даром и за чужой счет, раздаются всем поровну и не требуют усилий, как не требуется их, чтобы дышать и находиться в здравом уме. Я бы сказал, что всеобщими правами владеют, а личными непрестанно завладевают.
Досадно, что в обыденной речи плачевно выродилось
1 Массовое мышление - это мышление тех, у кого на любой вопрос заранее готов ответ, что не составляет труда и вполне устраивает. Напротив, незаурядность избегает судить без предварительных умственных усилий и считает достойным себя только то, что еще недоступно и требует нового взлета мысли.
Положение (букв.: благородство) обязывает (франц.).
такое вдохновляющее понятие, как «знатность». Применяемое лишь к «наследственным аристократам», оно стало чем-то похожим на всеобщие права, инертным и безжизненным свойством, которое обретается и передается механически. Но ведь подлинное значение - etymo - понятия «благородство» целиком динамично. Знатный означает «знаменитый», известный всему свету, тот, кого известность и слава выделили из безымянной массы. Имеются в виду те исключительные усилия, которым обязана слава. Знатен тот, у кого больше сил и кто их не жалеет. Знатность и слава сына - это уже рента. Сын известен потому, что прославился отец. Его известность - отражение славы, и действительно наследственная знатность косвенна - это отблеск, лунный отсвет умершего благородства. И единственное, что живо, подлинно и действенно, - это стимул, который заставляет наследника держаться на высоте, достигнутой предками. Даже в этом искаженном виде, noblesse oblige. Предка обязывало собственное благородство, потомка обязывает унаследованное. Тем не менее в наследовании благородства есть явное противоречие. У более последовательных китайцев обратный порядок наследования, и не отец облагораживает сына, а сын, достигая знатности, передает ее предкам, личным рвением возвышая свой скромный род. Поэтому степень знатности определяется числом поколений, на которые она распространяется, и кто-то, например, облагораживает лишь отца, а кто-то ширит свою славу до пятого или десятого колена. Предки воскресают в живом человеке и опираются на его действительное и действенное благородство - одним словом, на то, что есть, а не на то, что было1.
«Благородство» как четко обозначенное понятие возникает в Риме уже в эпоху Империи - и возникает именно как противовес родовой знати, отчетливо вырождающейся.
Для меня «благородство» - синоним жизни окрыленной, призванной перерасти себя и вечно устремленной от того, чем она становится, к тому, чем должна стать. Словом, благородная жизнь полярна жизни низменной, то есть инертной, закупоренной, осужденной на саму себя, ибо ничто не побуждает ее разомкнуть свои пределы. И людей, 1 Поскольку речь идет лишь о том, чтобы вернуть понятию «благородство» его изначальный смысл, исключающий наследование, не вижу необходимости углубляться в такое исторически знакомое понятие, как «благородная кровь».
живущих инертно, мы называем массой не за их многочисленность, а за их инертность.
Чем дольше существуешь, тем тягостней убеждаться, что большинству не доступно никакое усилие, кроме вынужденной реакции на внешнюю необходимость. Поэтому так редки на нашем пути и так памятны те немногие, словно изваянные в нашем сознании, кто оказался способен на самопроизвольное и щедрое усилие. Это избранные, нобили, единственные, кто зовет, а не просто отзывается, кто живет жизнью напряженной и неустанно упражняется в этом. Упражнение = askesis. Они аскеты 1.
Может показаться, что я отвлекся. Но для того, чтобы определить новый тип массового человека, который остался массовым и метит в избранные, надо было раздельно, в чистом виде, противопоставить ему два смешанных в нем начала - исконную массовость и врожденную или достигнутую элитарность.
Теперь дело двинется быстрей, поскольку найдено если не решение, то искомое уравнение, и ключ к господствующему сегодня психологическому складу, мне кажется, у нас в руках. Все дальнейшее вытекает из основной предпосылки, которая сводится к следующему: XIX век, обновив мир, создал тем самым новый тип человека, наделив его ненасытными потребностями и могучими средствами для их удовлетворения - материальными, медицинскими (небывалыми по своей массовости и действенности), правовыми и техническими (имеется в виду та масса специальных знаний и практических навыков, о которой прежде рядовой человек не мог и мечтать). Наделив его всей этой мощью, XIX век предоставил его самому себе, и средний человек, верный своей природной неподатливости, наглухо замкнулся. В итоге сегодня масса сильней, чем когда-либо, но при этом непробиваема, самонадеянна и не способна считаться ни с кем и ни с чем - словом, неуправляема. Если так пойдет и дальше, то в Европе - и, следовательно, во всем мире - любое руководство станет невозможным. В трудную минуту, одну из тех, что ждут нас впереди, встревоженные массы, быть может, и проявят добрую волю, изъявив готовность в каких-то частных и безотлагательных вопросах подчиниться меньшинству. Но благие намерения потерпят крах. Ибо коренные свойства массовой ду-
1 См.: El origen deportivo del Estado. - In: El Especfador, t. VII, 1930.
ши - это косность и нечувствительность, и потому масса природно неспособна понять что-либо выходящее за ее пределы, будь то события или люди. Она захочет следовать кому-то - и не сумеет. Захочет слушать - и убедится, что оглохла.
С другой стороны, напрасно надеяться, что реальный средний человек, как бы ни был сегодня высок его жизненный уровень, сумеет управлять ходом цивилизации. Именно ходом - я уж не говорю о росте. Даже просто поддерживать уровень современной цивилизации непомерно трудно, и дело это требует бесчисленных ухищрений. Оно' не по плечу тем, кто научился пользоваться некоторыми инструментами цивилизации, но ни слухом, ни духом не знает о ее основах.
Еще раз прошу тех, у кого хватило терпения одолеть вышесказанное, не истолковывать его в сугубо политическом смысле. Политика - самая действенная и наглядная сторона общественной жизни, но она вторична и обусловлена причинами потаенными и неощутимыми. И политическая косность не была бы так тяжка, если бы не проистекала из более глубокой и существенной косности - интеллектуальной и нравственной. Поэтому без анализа последней исследуемый вопрос не прояснится.
VIII. Почему массы вторгаются всюду, во все и всегда не иначе как насилием
Начну с того, что выглядит крайне парадоксальным, а в действительности проще простого: когда для заурядного человека мир и жизнь распахнулись настежь, душа его для них закрылась наглухо. И я утверждаю, что эта закупорка заурядных душ и породила то возмущение масс, которое становится серьезной проблемой для человечества.
Естественно, что многие думают иначе. Это в порядке вещей и только подтверждает мою мысль. Будь даже мой взгляд на этот сложный предмет целиком неверным, верно то, что многие из оппонентов не размышляли над ним и пяти минут. Могут ли они думать, как я? Но непреложное право на собственный взгляд без каких-либо предварительных усилий его выработать как раз и свидетельствует о том абсурдном состоянии человека, которое я называю «массовым возмущением». Это и есть герметизм, закупорка души. В данном случае - герметизм сознания. Человек
обзавелся кругом понятий. Он полагает их достаточными и считает себя духовно завершенным. И, ни в чем извне нужды не чувствуя, окончательно замыкается в этом кругу. Таков механизм закупорки.
Массовый человек ощущает себя совершенным. Человеку незаурядному для этого требуется незаурядное самомнение, наивная вера в собственное совершенство у него не органична, а внушена тщеславием и остается мнимой, притворной и сомнительной для самого себя. Поэтому самонадеянному так нужны другие, те, кто подтвердил бы его домыслы о себе. И даже в этом клиническом случае, даже «ослепленный» тщеславием, достойный человек не в силах ощутить себя завершенным. Напротив, сегодняшней заурядности, этому новому Адаму, и в голову не взбредет усомниться в собственной избыточности. Самознание у него поистине райское. Природный душевный герметизм лишает его главного условия, необходимого, чтобы ощутить свою неполноту, - возможности сопоставить себя с другим. Сопоставить означало бы на миг отрешиться от себя и вселиться в ближнего. Но заурядная душа неспособна к перевоплощению - для нее, увы, это высший пилотаж.
Словом, та же вечная разница, что между тупым и смышленым. Один замечает, что он на краю неминуемой глупости, силится отпрянуть, избежать ее и своим усилием укрепляет разум. Другой ничего не замечает: для себя он - само благоразумие, и отсюда та завидная безмятежность, с какой он погружается в собственный идиотизм. Подобно тем моллюскам, которых не удается извлечь из раковины, глупого невозможно выманить из его глупости, вытолкнуть наружу, заставить на миг оглядеться по ту сторону своих катаракт и сличить свою привычную подслеповатость с остротой зрения других. Он глуп пожизненно и прочно. Недаром Анатоль Франс говорил, что дурак пагубней злодея. Поскольку злодей хотя бы иногда передыхает1.
Речь не о том, что массовый человек глуп. Напротив, сегодня его умственные способности и возможности шире, чем когда-либо. Но это не идет ему впрок: на деле смутное ощущение своих возможностей лишь побуждает его закупориться и не пользоваться ими. Раз навсегда освящает он
1 Я не раз задавался таким вопросом. Испокон веков для многих людей самым мучительным в жизни было, несомненно, столкновение с глупостью ближних. Почему же в таком случае никогда не пытались изучать ее, не было, насколько мне известно, ни одного исследования?
Эту мешанину прописных истин, несвязных мыслей и просто словесного мусора, что скопилась в нем по воле случая, и навязывает ее везде и всюду, действуя по простоте душевной, а потому без страха и упрека. Именно об этом и говорил я в первой главе: специфика нашего времени не в том,') что посредственность полагает себя незаурядной, а в том, что она провозглашает и утверждает свое право на пошлость, или, другими словами, утверждает пошлость как право.
Тирания интеллектуальной пошлости в общественной жизни, быть может, самобытнейшая черта современности, наименее сопоставимая с прошлым. Прежде в европейской истории чернь никогда не заблуждалась насчет собственных «идей» касательно чего бы то ни было. Она наследовала верования, обычаи, житейский опыт, умственные навыки, пословицы и поговорки, но не присваивала себе умозрительных суждений - например, о политике или искусстве - и не определяла, что они такое и чем должны стать. Она одобряла или осуждала то, что задумывал и осуществлял политик, поддерживала или лишала его поддержки, но действия ее сводились к отклику, сочувственному или наоборот, на творческую волю другого. Никогда ей не взбредало в голову ни противопоставлять «идеям» политика свои, ни даже судить их, опираясь на некий свод «идей», признанных своими. Так же обстояло с искусством и другими областями общественной жизни. Врожденное сознание своей узости, неподготовленности к теоретизированию 1 воздвигало глухую стену. Отсюда само собой следовало, что плебей не решался даже отдаленно участвовать почти ни в какой общественной жизни, по большей части всегда концептуальной.
Сегодня, напротив, у среднего человека самые неукоснительные представления обо всем, что творится и должно твориться во Вселенной. Поэтому он разучился слушать. Зачем, если все ответы он находит в самом себе? Нет никакого смысла выслушивать и, напротив, куда естественней судить, решать, изрекать приговор. Не осталось такой общественной проблемы, куда бы он не встревал, повсюду оставаясь глухим и слепым и всюду навязывая свои «взгляды».
Но разве это не достижение? Разве не величайший про-
1 Это не подмена понятий: выносить суждение означает теоретизировать
'гресс то, что массы обзавелись «идеями», то есть культурой? Никоим образом. Потому что «идеи» массового человека таковыми не являются и культурой он не обзавелся. Идея - это шах истине. Кто жаждет идей, должен прежде них домогаться истины и принимать те правила игры, которых она требует. Бессмысленно говорить об идеях и взглядах, не признавая системы, в которой они выверяются, свода правил, к которым можно апеллировать в споре. Эти правила - основы культуры. Неважно, какие именно. Важно, что культуры нет, если нет устоев, на которые можно опереться. Культуры нет, если к любым, даже крайним взглядам нет уважения, на которое можно рассчитывать в полемике 1. Культуры нет, если экономические связи не руководствуются торговым правом, способным их защитить. Культуры нет, если эстетические споры не ставят целью оправдать искусство.
Если всего этого нет, то нет и культуры, а есть, в самом прямом и точном смысле слова, варварство. Именно его - не будем обманываться - и утверждает в Европе растущее вторжение масс. Путник, попадая в варварский край, знает, что не найдет там законов, к которым мог бы воззвать. Не существует собственно варварских порядков. У варваров их попросту нет и взывать не к чему.
Мерой культуры служит четкость установлений. При малой разработанности они упорядочивают лишь grosso тоио', и чем отделанней они, тем подробней выверяют любой вид деятельности. Скудость испанской интеллектуальной культуры не в большей или меньшей нехватке знаний, а в той привычной бесшабашности, с какой говорят и пишут, не слишком заботливо сверяясь с истиной. Словом, беда не в большей или меньшей неистинности - истина не в нашей власти, - а в большей или меньшей недобросовестности, которая мешает выполнять несложные и необходимые для истины условия. В нас неискореним тот деревенский попик, что победно громит манихеев, так и не позаботясь уяснить, о чем же они, собственно, толкуют.
Всеми признано, что в Европе с некоторых пор творятся «диковинные вещи». В качестве примера назову две - синдикализм и фашизм. И диковинность их отнюдь не в новизне. Страсть к обновлению в европейцах настоль-
1 Кто в споре не доискивается правды и не стремится быть правди вым, тот интеллектуально варвар. В сущности, так и обстоит с марсовым человеком, когда он говорит, вещает или пишет.
ко неистребима, что сделала их историю самой беспокойной в мире. Следовательно, удивляет в упомянутых политических течениях не то, что в них нового, а знак качества этой новизны, доселе невиданный. Под маркой синдикализма и фашизма впервые возникает в Европе тип человека, который не желает ни признавать, ни доказывать правоту, а намерен просто-напросто навязать свою волю. Вот что внове - право не быть правым, право на произвол. Я считаю это самым наглядным проявлением нового поведения масс, исполненных решимости управлять обществом при полной к тому неспособности. Политическая позиция предельно грубо и неприкрыто выявляет новый душевный склад, но коренится она в интеллектуальном герметизме. Массовый человек обнаруживает в себе ряд «представлений», но лишен самой способности «представлять». И даже не подозревает, каков он, тот хрупкий мир, в котором живут идеи. Он хочет высказаться, но отвергает условия и предпосылки любого высказывания. И в итоге его «идеи» не что иное, как словесные вожделения наподобие жестоких романсов.
Выдвигать идею означает верить, что она разумна и справедлива, а тем самым верить в разум и справедливость, в мир умопостигаемых истин. Суждение и есть обращение к этой инстанции, признание ее устава, подчинение ее законам и приговорам, а значит, и убеждение, что лучшая форма сосуществования - диалог, где столкновение доводов выверяет правоту наших идей. Но массовый человек, втянутый в обсуждение, теряется, инстинктивно противится этой высшей инстанции и необходимости уважать то, что выходит за его пределы. Отсюда и последняя «новинка» - оглушивший Европу лозунг: «хватит дискутировать», - и ненависть к любому сосуществованию, по своей природе объективно упорядоченному, от разговора до парламента, не говоря о науке. Иными словами, отказ от сосуществования культурного, то есть упорядоченного, и откат к_ваг»варскому. Душевный герметизм, толкающий массу, как уже говорилось, вторгаться во вес сферы общественной жизни, неизбежно оставляет ей единственный путь для вторжения - прямое действие.
Обращаясь к истокам нашего века, когда-нибудь отметят, что первые ноты его сквозной мелодии прозвучали на рубеже столетий среди тех французских синдикалистов и роялистов, кто придумал термин «прямое действие» вкупе с его содержанием. Человек постоянно прибегал к насилию.
Оставим в стороне просто преступления. Но ведь нередко к насилию прибегают, исчерпав все средства в надежде образумить, отстоять то, что кажется справедливым. Печально, конечно, что жизнь раз за разом вынуждает человека к такому насилию, но бесспорно также, что оно - дань разуму и справедливости. Ведь и само это насилие не что иное, как ожесточенный разум. И сила действительно лишь его последний довод. Есть обыкновение произносить ultima ratio* иронически, обыкновение довольно глупое, поскольку смысл этого выражения - в заведомом подчинении силы разумным нормам. Цивилизация и есть опыт обуздания силы, сведение ее роли к ultima ratio. Слишком хорошо мы видим это теперь, когда «прямое действие» опрокидывает порядок вещей и утверждает силу как prima ratio, a в действительности - как единственный довод. Это она становится законом, который намерен упразднить остальные и впрямую диктовать свою волю. Это Charta Magna** одичания.
Нелишне вспомнить, что, когда бы и из каких бы побуждений ни вторгалась масса в общественную жизнь, она всегда прибегала к «прямому действию». Видимо, это ее природный способ действовать. И самое веское подтверждение моей мысли - тот очевидный факт, что теперь, когда диктат массы из эпизодического и случайного превратился в повседневный, «прямое действие» стало правилом.
Все человеческие связи подчинились этому новому порядку, упразднившему «непрямые» формы сосуществования. В человеческом общении упраздняется «воспитанность». Словесность как «прямое действие» обращается в ругань. Сексуальные отношения утрачивают свою многогранность.
Грани, нормы, этикет,. законы писаные и неписаные, право, справедливость! Откуда они, зачем такая усложненность? Все это сфокусировано в слове «цивилизация», корень которого - civis, гражданин, то есть горожанин, - указывает на происхождение смысла. И смысл всего этого - сделать возможным город, сообщество, сосуществование. Потому, если вглядеться в перечисленные мной средства цивилизации, суть окажется одна. Все они в итоге предполагают глубокое и сознательное желание каждого считаться с остальными. Цивилизация - это прежде всего
Последний довод (лат.). ** Великая Хартия (лат.).
воля-к сосуществованию. Дичают по мере того, как перестают считаться друг с другом. Одичание - процесс разобщения. И действительно, периоды варварства, все до единого, - это время распада, кишение крохотных группировок, разъединенных и враждующих.
Высшая политическая воля к сосуществованию воплощена в либеральной демократии. Это первообраз «непрямого действия», доведший до предела стремление считаться с ближним. Либерализм - правовая основа, согласно которой Власть, какой бы всесильной она ни была, ограничивает себя и стремится, даже в ущерб себе, сохранить в государственном монолите пустоты для выживания тех, кто думает и чувствует наперекор ей, то есть наперекор силе, наперекор большинству. Либерализм - и сегодня стоит об этом помнить - предел великодушия: это право, которое большинство уступает меньшинству, и это самый благородный клич, когда-либо прозвучавший на Земле. Он возвестил о решимости мириться с врагом, и - мало того - врагом слабейшим. Трудно было ждать, что род человеческий решится на такой шаг, настолько красивый, настолько парадоксальный, настолько тонкий, настолько акробатический, настолько неестественный. И потому нечего удивляться, что вскоре упомянутый род ощутил противоположную решимость. Дело оказалось слишком непростым и нелегким, чтобы утвердиться на Земле.
Уживаться с врагом! Управляться с оппозицией! Не кажется ли уже непонятной подобная покладистость? Ничто не отразило современность так беспощадно, как то, что все меньше стран, где есть оппозиция. Повсюду аморфная масса давит на государственную власть и подминает, топчет малейшие оппозиционные ростки. Масса - кто бы подумал при виде ее однородной скученности! - не желает уживаться ни с кем, кроме себя. Все, что не масса, она ненавидит смертно.
IX. Одичание и техника
Крайне важно помнить, что положение дел в современном мире само по себе двусмысленно. Именно поэтому я изначально внушал, что любое явление современности - и особенно восстание масс - подобно водоразделу. Каждое из них не только может, но и должно толковаться двояко, в хорошем и плохом смысле. Эта двойственность коренится не в нашей оценке, а в самой действительности. Причина
не в том, что под разным углом зрения современная обстановка может казаться хорошей или плохой, а в том, что сама она таит двоякую возможность победы или гибели.
Я не собираюсь подкреплять это исследование всей метафизикой истории. Но строится оно, конечно, на фундаменте моих философских убеждений, изложенных или намеченных ранее. Я не верю в абсолютную историческую неизбежность. Напротив, я думаю, что жизнь, и в том чисf ле историческая, складывается из множества мгновений, относительно независимых и непредрешенных, и каждый миг действительность колеблется, pietine sur place*, словно выбирая ту или иную возможность. Эти метафизические колебания и придают всему живому неповторимый трепет и ритм.
Восстание масс в итоге может открыть путь к новой и небывалой организации человечества, но может привести и к катастрофе. Нет оснований отрицать достигнутый прогресс, но следует оспаривать веру в его надежность. Реалистичней думать, что не бывает надежного прогресса, нет такого развития, которому не грозили Сы упадок и вырождение. В истории все осуществимо, все что угодно, - и непрерывный подъем, и постоянные откаты. Ибо жизнь, одиночная или общественная, частная или историческая,-это единственное в мире, что нерасторжимо с опасностью. Она складывается из превратностей. Строго говоря, это драма1.
С наибольшей силой эта общая истина проступает в такие «критические моменты», как наш. И новые поведенческие черты, рожденные господством масс и обобщенные нами в понятии «прямое действие», могут предвещать и будущее благо. Понятно, что всякая старая культура тащит за собой немалый груз изношенного и окостенелого, те остаточные продукты сгорания, что отравляют жизнь. Это
Топчется на месте (франц.).
1 Не приходится думать, что кто-либо примет мои слова всерьез, - в лучшем случае их просто сочтут метафорой, более или менее удачной. Лишь человек слишком бесхитростный, чтобы уверовать, будто знает окончательно, в чем состоит жизнь или хотя бы в чем она не состоит, воспримет прямой смысл этих слов и - верны они там или нет - единственный поймет их. Остальные будут на редкость единодушны и разойдутся лишь в одном - считать ли жизнь, говоря серьезно, бытием души или же чередой химических реакций. Не знаю, убедит ли настолько закоснелых читателей моя позиция, которая сводится к тому, что исконное и глубинное значение слова жизнь открывается при биографическом, а не при биологическом подходе. Это веско подтверждается тем, что в иной биографии все биологическое не больше чем глача. Биология вписывает лишь пару страниц, и все добавления к ним - абстракция, фантазия и миф.
мертвые установления, устарелые авторитеты и ценности, неоправданные сложности, ставшие беспочвенными устои. Все эти звенья непрямого действия - цивилизации - со временем нуждаются в безоглядном и безжалостном упрощении. Романтические редингот и пластрон настигает возмездие в виде теперешнего deshabille* и распахнутого ворота. Это решение в пользу здоровья и хорошего вкуса-лучшее решение, ибо меньшими средствами достигает большего. Кущи романтической любви тоже потребовали садовых ножниц, чтобы избавиться от искусственных магнолий, в избытке прицепленных к веткам, и удушливых лиан, плющей и прочих хитросплетений, загородивших солнце.
Общественной жизни в целом и политической в особенности не обойтись без возврата к естеству, и Европе не сделать того упругого, уверенного рывка, к которому призывают оптимисты, если она не обернется собой, голой сутью, скинувшей старье. Я радуюсь этому искусу наготы и неподдельности, вижу в нем залог достойного будущего и в отношении прошлого стою за полную духовную независимость. Главенствовать должно будущее, и лишь оно диктует, как поступать с былым1.
Но следует избегать тяжелейшего греха корифеев XIX века - притупленного чувства ответственности, которое вело их к утрате тревоги и бдительности. Отдаваться течению событий, полагаясь на попутный ветер, и не улавливать малейших признаков опасности и ненастья, когда день еще ясен, - это и есть утрата ответственности. Сегодня чувство ответственности надо возбуждать и будоражить в тех, у кого оно сохранилось, и пристальность к угрожающим симптомам современности представляется делом первостепенным.
Бесспорно, диагноз нашей общественной жизни куда больше тревожит, чем обнадеживает, особенно если исходить не из сиюминутного состояния, а из того, к чему оно ведет.
Здесь', простого и вольного стиля одежды (франц.). 1 Эта свобода действий в отношении прошлого - не скоропалительный бунт, а сознательный долг любого «переломного» времени. Если я защищаю либерализм XIX века от развязности массовых нападок, это не значит, что я поступаюсь независимостью по отношению к самому либерализму. И другой, противоположный пример: одичание, которое в этой работе представлено с его наихудшей стороны, в определенном смысле является предпосылкой любого крупного исторического скачка. - См. об этом в моем недавнем труде «Биология и педагогика» (гл. III, «Парадокс варварства»).
Тот очевидный взлет, который испытала жизнь, рискует оборваться в столкновении с самой грозной проблемой, вторгшейся в европейскую судьбу. Еще раз ее сформулирую: власть в обществе захватил новый тип человека, равнодушный к основам цивилизации. И не той или этой, а любой, насколько сегодня можно судить. Он отчетливо неравнодушен к пилюлям, автомобилям и чему-то еще. Но это лишь подтверждает его глубокое равнодушие к цивилизации. Все перечисленное - ее плоды, и всепоглощающая тяга к ним как раз и подчеркивает полное равнодушие к корням. Достаточно одного примера. С тех пор как существуют nuove scienze - естественные науки, - то есть начиная с Возрождения, увлеченность ими непрерывно возрастала, а именно: число людей, посвятивших себя исследованиям, пропорционально росло с каждым новым поколением. Впервые оно упало в том поколении, которому сегодня пошел третий десяток. Лаборатории чистой науки теряют притягательность и заодно учеников. И происходит это в те дни, когда техника достигла расцвета, а люди наперебой спешат воспользоваться препаратами и аппаратами, созданными научным знанием.
Рискуя надоесть, нетрудно было бы выявить подобную же несообразность в искусстве, политике, морали, религии и просто в повседневной жизни, Что знаменует такая парадоксальная картина? Ответ на это я и пытаюсь дать в моей работе. Такая парадоксальность означает, что в мире сегодня господствует дикарь, Naturmensch, внезапно всплывший со дна цивилизации. Цивилизован мир, но не его обитатель - он даже не замечает этой цивилизованности и просто пользуется ею, как дарами природы. Ему хочется автомобиль, и он утоляет желание, полагая, что автомобиль этот свалился с райского древа. В душе он не догадывается об искусственной, почти неправдоподобной природе цивилизации, и его восхищение техникой отнюдь не простирается на те основы, которым он обязан этой техникой. Приведенные выше слова Ратенау о «вертикальном вторжении варваров» можно было счесть - и обычно считают - просто «фразой». Но теперь ясно, что слова эти, верны они или нет, в любом случае не просто «фраза», а напротив - рожденная кропотливым анализом точная формулировка. На древние подмостки цивилизации прокрался из-за кулис массовый, а в действительности - первобытный человек.
Ежечасно твердят о небывалом техническом прогрессе,
но то, что его будущее достаточно драматично, не осознается никем, даже самыми лучшими. Глубокий и проницательный, при всей его маниакальности, Шпенглер - и тот представляется мне чрезмерным оптимистом. Он убежден, что на смену «культуре» приходит «цивилизация», под которой он понимает прежде всего технику. Представления Шпенглера о «культуре» и вообще об истории настолько далеки от моих, что мне трудно даже опровергать его выводы. Лишь перескочив эту пропасть, можно привести оба воззрения к общему знаменателю и тем установить расхождение: Шпенглер верит, что техника способна существовать и после того, как угаснет интерес к основам культуры, - я же в это поверить не решаюсь. В основе техники - знание, а знание существует, пока оно захватывает само по себе, в чистом виде, и неспособно захватить, если люди не захвачены существом культуры. Когда этот пыл гаснет - что сейчас, видимо, и происходит, - техника движется лишь силой инерции, которую сообщил ей ненадолго импульс культуры. С техникой сжился, но не техникой жив человек. Сама она не может жить и питаться собой, это не causa sut, а полезный, прикладной отстой бесполезных и бескорыстных усилий1.
Словом, надо помнить, что современный интерес к технике еще не гарантирует - или уже не гарантирует - ни ее развития, ни даже сохранения. Техницизм не зря считается одним из атрибутов «современной культуры», то есть культуры, которая вбирает лишь те знания, что приносят материальную пользу. Потому-то, рисуя новые черты, обретенные жизнью в XIX веке, я сосредоточился на двух - либеральной демократии и технике2. Но меня, повторяю, пугает та легкость, с которой забывают, что душа техники - чистая наука и что их развитие обусловлено одним и тем же. Никто не задумывался, чем должна жить/ душа, чтобы в мире жили подлинные «люди науки»? Или^
1 Поэтому, на мой взгляд, пустое дело - судить об Америке по ее «технике». Вообще, одно из самых глубоких помрачений европейского сознания - это детский взгляд на Америку, присущий и самым образованным европейцам. Это частный случай того, с чем мы не раз еще столкнемся, - несоответствия между сложностью современных проблем и уровнем мышления.
2 Строго говоря, либеральная демократия и техника так тесно связаны и переплетены, что немыслимы одна без другой, и хотелось бы найти какое-то третье, всеобъемлющее понятие, которое стало бы наименованием XIX века, его именем нарицательным.
вы всерьез верите, что, пока есть доллары, будет и наука? Это соображение, для многих успокоительное, - лишний признак одичания.
Чего стоит одно только количество компонентов, таких разнородных, которые потребовалось собрать и перемешать, чтобы получить cocktail физико-химических дисциплин! Даже при беглом и поверхностном взгляде бросается в глаза, что на всем временном и пространственном протяжении физическая химия возникла и смогла утвердиться лишь в тесном квадрате между Лондоном, Берлином, Веной и Парижем. И лишь в XIX веке. Из этого видно, что экспериментальное знание - одно из самых немыслимых явлений истории. Колдуны, жрецы, воины и пастухи кишели где угодно и когда угодно. Но такая человеческая порода, как ученые-экспериментаторы, очевидно, требует невиданных условий, и ее возникновение куда сверхъестественней, чем явление единорога. Эти скупые факты должны бы вразумить, как зыбко и мимолетно научное вдохновение1. Блажен, кто верует, что с исчезновением Европы североамериканцы могли бы продолжать науку!
Следовало бы углубиться в это и скрупулезно выявить, каковы исторические и жизненные предпосылки экспериментального знания, а значит - и техники. Но и самый исчерпывающий вывод вряд ли проймет массового человека. Он верит доводам желудка, а не разума.
Я разуверился в пользе подобных проповедей, слабость которых - в их разумности. Не абсурдно ли, что сегодня рядовой человек, не чувствует сам, без посторонних наставлений, жгучего интереса к упомянутым наукам и родственной им биологии? Ведь современное состояние культуры таково, что все ее звенья-политика, искусство, общественные устои, даже нравственность - становятся день ото дня смутнее, кроме того единственного, что ежечасно, с неоспоримой наглядностью, способной пронять массового человека, подтверждает свою результативность, а именно экспериментальной науки. Что ни день, то новое изобретение, которым пользуются все. Что ни день, то новое болеутоляющее либо профилактическое средство, которым пользуют тоже всех. И всякому ясно, что, если, в надежде на постоянство научного вдохновения, утроить или удесятерить число лабораторий, соответственно возрастут сами
Не буду углубляться. Большинство ученых сами еще не подозревают об опасности того скрытого кризиса, который переживает сегодня наука.
собой богатства, удобства, благополучие и здоровье. Есть ли что сильней и убедительней этих жизненных доводов? Почему же тем не менее массы не обнаруживают ни малейшего поползновения жертвовать деньги, чтобы материально и морально поддержать науку? Совершенно напротив, послевоенное время сделало ученых настоящими париями. И подчеркиваю: не философов, а физиков, химиков, биологов. Философия не нуждается ни в покровительстве, ни в симпатиях массы. Она заботится, чтобы в ее облике не возникло ничего утилитарного1, и тем полностью освобождается от власти массового мышления. Она по сути своей проблематична, сама для себя загадочна и рада своей вольной участи птиц небесных. Нет нужды, чтобы с ней считались, ей незачем навязывать или отстаивать себя. И если кто-то извлекает из нее пользу, она по-человечески рада за него, но живет не за счет чьей-то выгоды и не в расчете на нее. Да и как ей претендовать на серьезное отношение, если начинает она с сомнений в собственном существовании и-живет лишь тем, что борется с собой не на жизнь, а на смерть? Однако оставим философию, это разговор особый.
Но экспериментальное знание в массах нуждается, как и массы нуждаются в нем, под страхом смерти, ибо без физической химии планета уже не в силах прокормить их.
Какие доводы убедят тех, кого не убеждают вожделенный автомобиль и чудотворные инъекции пантопона? Несоответствие между тем явным и прочным благоденствием, которое наука дарит, и тем отношением, которым ей платят, таково, что нельзя больше обманываться пустыми надеждами и ждать чего-либо иного, кроме всеобщего одичания. Тем более что нигде равнодушие к науке не проступает, в чем мы не раз убедимся, с такой отчетливостью, как среди самих специалистов - медиков, инженеров и т. д., - которые привыкли делать свое дело с таким же душевным настроем, с каким водят автомобиль или принимают аспирин, - без малейшей внутренней связи с судьбами науки и цивилизации. ~ -
Вероятно, кого-то пугают иные признаки воскресшего варварства, которые выражены действием, а не бездеятельностью, сильней бросаются в глаза и потому у всех на виду. Но для меня самый тревожный признак - именно это несоответствие между теми благами, которые рядовой че-
1 См.: Аристотель. Метафизика, 893 а, 10.
ловек получает от науки, и его отношением к ней, то есть бесчувственностью!. Это неадекватное поведение понятней, если вспомнить, что негры в африканской глуши тоже водят автомобиль и глотают аспирин. Те люди, что готовы завладеть Европой, - такова моя гипотеза - это варвары, которые хлынули из люка на подмостки сложной цивилизации, их породившей. Это - «вертикальное одичание» во плоти.
X. Одичание и история
Природа всегда налицо. Она сама себе опора. В диком лесу можно безбоязненно дикарствовать. Можно и навек одичать, если душе угодно и если не помешают иные пришельцы, не столь дикие. В принципе целые народы могут вечно оставаться первобытными. И остаются. Брейзиг назвал их «народами бесконечного рассвета», потому что они навсегда застряли в неподвижных, мерзлых сумерках, которых не растопить никакому полдню.
Все это возможно в мире полностью природном. Но не полностью цивилизованном, подобно нашему. Цивилизация не данность и не держится сама собой. Она искусственна и требует искусства и мастерства. Если вам по вкусу ее блага, но лень заботиться о ней... плохи ваши дела. Не успеете моргнуть, как окажетесь без цивилизации. Малейший недосмотр - и все вокруг улетучится в два счета! Словно спадут покровы с нагой Природы и вновь, как изначально, предстанут первобытные дебри. Дебри всегда первобытны, и наоборот. Все первобытное - это дебри.
Романтики были поголовно помешаны на сценах насилия, где низшее, природное и дочеловеческое, попирало человеческую белизну женского тела, и вечно рисовали Леду с распаленным лебедем, Пасифаю с быком, настигнутую козлом Антиопу. Но еще более утонченным садизмом их привлекали руины, где окультуренные, граненые камни меркли в объятиях дикой зелени. Завидя строение, истый
1 Такая противоестественность удесятеряется тем, что все остальные жизненные устои - политика, право, искусство, мораль, религия - по своей действенности, да и сами по себе, переживают, как уже отмечалось, кризис или по меньшей мере временный упадок. Одна наука не потерпела крах и, что ни день, со сказочной быстротой исполняет обещанное и сверх обещанного. Словом, она вне конкуренции, и пренебрежение к ней нельзя извинить, даже если заподозрить в массовом человеке пристрастие к иным областям культуры.
романтик прежде всего искал глазами желтый мох на кровле. Блеклые пятна возвещали, что все только прах, из которого поднимутся дебри.
Грешно смеяться над романтиком. По-своему он прав. За невинной извращенностью этих образов таится животрепещущая проблема, великая и вековечная: взаимодействие разумного и стихийного, культуры и неуязвимой для нее Природы. Оставляю за собой право при случае заняться этим и обернуться на сей раз романтиком.
Но сейчас я занимаюсь обратной проблемой - как остановить натиск леса. Сейчас «истинному европейцу» предстоит решать задачу, над которой бьются австралийские штаты, - как помешать диким кактусам захватить землю и сбросить людей в море. В сорок каком-то году некий эмигрант, тоскующий по родной Малаге либо Сицилии, привез в Австралию крохотный росточек кактуса. Сегодня австралийский бюджет истощает затяжная война с этим сувениром, который заполонил весь континент и наступает со скоростью километра в год.
Веря в то, что цивилизация так же стихийна и первозданна, как сама Природа, массовый человек ipso facto* уподобляется дикарю. Он видит в ней свое лесное логово. Об этом уже говорилось, но следует дополнить сказанное.
Основы, на которых держится цивилизованный мир - и без которых он рухнет, - для массового человека попросту не существуют. Эти краеугольные камни его не занимают, не заботят, и крепить их он не намерен. Почему так сложилось? Причин немало, но остановлюсь на одной.
С развитием цивилизация становится все сложней и запутанней. Проблемы, которые она сегодня ставит, архитрудны. И все меньше людей, чей разум на высоте этих проблем. Наглядное свидетельство тому - послевоенный период. Восстановление Европы - область высшей математики и рядовому европейцу явно не по силам. И не потому, что не хватает средств. Не хватает голов. Или, точнее, голова, хоть и с трудом, нашлась бы - и не одна, - но иметь ее на плечах дряблое тело срединной Европы не хочет.
Разрыв между уровнем современных проблем и уров- ? нем мышления будет расти, если не отыщется выход, и в \ этом главная трагедия цивилизации. Благодаря верности и плодотворности своих основ она плодоносит с быстротой и
В силу самого факта, здесь: фактически (лат.).
легкостью, уже недоступной человеческому восприятию. Не думаю, что когда-либо происходило подобное. Все цивилизации погибали от несовершенства своих основ. Европейской грозит обратное. В Риме и Греции потерпели крах устои, но не сам человек. Римскую империю доконала техническая слабость. Когда население ее разрослось и спешно пришлось решать неотложные хозяйственные задачи, решить которые могла лишь техника, античный мир двинулся вспять, стал вырождаться и зачах.
Но сегодня крах терпит сам человек, уже неспособный поспевать за своей цивилизацией. Оторопь берет, когда люди вполне культурные трактуют злободневную тему. Словно заскорузлые крестьянские пальцы вылавливают со стола иголку. К политическим и социальным вопросам они приступают с таким набором допотопных понятий, какой годился в дело двести лет назад для преодоления трудностей в двести раз легче.
Растущая цивилизация - не что иное, как жгучая проблема. Чем больше достижений, тем в большей они опасности. Чем лучше жизнь, тем она сложнее. Разумеется, с усложнением самих проблем усложняются и средства для их разрешения. Но каждое новое поколение должно овладеть ими во всей полноте. И среди них, переходя к делу, выделю самое азбучное: чем цивилизация старше, тем больше прошлого за ее спиной и тем она опытней. Словом, речь идет об истории. Историческое знание - первейшее средство сохранения и продления стареющей цивилизации, и не потому, что дает рецепты ввиду новых жизненных осложнений - жизнь не повторяется, - но потому, что не дает перепевать наивные ошибки прошлого. Однако, если вы помимо того, что состарились и впали в тяготы, ко всему еще утратили память, ваш опыт, да и все на свете, вам уже не впрок. Я думаю, что именно это и случилось с Европой. Сейчас самые «культурные» слои поражают историческим невежеством. Ручаюсь, что сегодня ведущие люди Европы смыслят в истории куда меньше, чем европеец XVIII и даже XVII века. Историческое знание тогдашней верхушки-властителей sensu lato*-открыло дорогу сказочным достижениям XIX века. Их политика - речь идет о XVIII веке - вершилась во избежание всех политических ошибок прошлого, строилась с учетом этих ошибок и обобщала самый долгий опыт из возможных. Но уже
В широком смысле (лат.).
XIX век начал утрачивать «историческую культуру», хотя специалисты при этом и продвинули далеко вперед историческую науку1. Этому небрежению он обязан своими характерными ошибками, которые сказались и на нас. В последней его трети обозначился - пока еще скрытно и подпочвенно - отход назад, откат к варварству, другими словами, к той скудоумной простоте, которая не знала прошлого или забыла его.
Оттого-то и большевизм, и фашизм, две политические «новинки», возникшие в Европе и по соседству с ней, отчетливо представляют собой движение вспять. И не столько по смыслу своих учений - в любой доктрине есть доля истины, да и в чем только нет хотя бы малой ее крупицы, - сколько по тому, как допотопно, а7<тмисторически используют они свою долю истины. Типично массовые движения, возглавленные, как и следовало ждать, недалекими людьми старого образца, с короткой памятью и нехваткой исторического чутья, они с самого начала выглядят так, словно уже канули в прошлое, и, едва возникнув, кажутся реликтовыми.
Я не обсуждаю вопроса, становиться или не становиться коммунистом. И не оспариваю символ веры. Непостижимо и анахронично то, что коммунист 1917 года решается на революцию, которая внешне повторяет все прежние, не исправив ни единой ошибки, ни единого их изъяна. Поэтому происшедшее в России исторически невыразительно и не знаменует собой начало новой жизни. Напротив, это монотонный перепев общих мест любой революции. Общих настолько, что нет ни единого изречения, рожденного опытом революций, которое применительно к русской не подтвердилось бы самым печальным образом. «Революция пожирает собственных детей!», «Революция начинается умеренными, совершается непримиримыми, завершается реставрацией» и т. д. и т. п. К этим затасканным истинам можно бы добавить еще несколько не столь явных, но вполне доказуемых - например, такую: революция длится не дольше пятнадцати лет, активной жизни одного поколения2.
1 В этом уже проступает та разница между научным уровнем эпохи и ее культурным уровнем, с которой мы еще столкнемся вплотную.
2 Срок деятельности одного поколения - около тридцати лет. Но срок этот делится на два разных и приблизительно равных периода: в течение первого новое поколение распространяет свои идеи, склонности и вкусы, которые в конце концов утверждаются прочно и в течение всего второго
Кто действительно хочет создать новую социально-политическую явь, тот прежде всего должен позаботиться, чтобы в обновленном мире утратили силу жалкие стереотипы исторического опыта. Лично я приберег бы титул «гениальный» для такого политика, от первых же шагов которого спятили все профессора истории, видя, как их научные «законы» разом стареют, рушатся и рассыпаются прахом.
Почти все это, лишь поменяв плюс на минус, можно адресовать и фашизму. Обе попытки не на высоте своего времени, потому что превзойти прошлое можно только при одном неумолимом условии - надо его целиком, как пространство в перспективу, вместить в себя. С прошлым не сходятся врукопашную. Новое побеждает, лишь поглотив его. А подавившись, гибнет.
Обе попытки - это ложные зори, у которых не будет завтрашнего утра, а лишь давно прожитый день, уже виденный однажды, и не только однажды. Это анахронизмы. И так обстоит дело со всеми, кто в простоте душевной точит зубы на ту или иную порцию прошлого, вместо того чтобы приступить к ее перевариванию.
Безусловно, надо преодолеть либерализм XIX века. Но такое не по зубам тому, кто, подобно фашистам, объявляет себя антилибералом. Ведь быть не либералом либо антилибералом - значит занимать ту позицию, что была до наступления либерализма. И раз он наступил, то, победив однажды, будет побеждать и впредь, а если погибнет, то лишь вкупе с антилиберализмом и со всей Европой. Хронология жизни неумолима. Либерализм в ее таблице наследует антилиберализму, или, другими словами, настолько жизненней последнего, насколько пушка гибельней копья.
На первый взгляд кажется, что каждому «ангпичему-то» должно предшествовать это самое «что-то», поскольку отрицание предполагает его уже существующим. Однако новоявленное анти растворяется в пустом жесте отрицания и оставляет по себе нечто антикварное. Если кто-то, например, заявляет, что он антитеатрал, то в утвердительной
периода господствуют. Тем временем поколение, выросшее под их господством, уже несет свои идеи, склонности и вкусы, постепенно пропитывая ими общественную атмосферу. И если господствуют крайние взгляды и предыдущее поколение по своему складу революционно, то новое будет тяготеть к обратному, то есть к реставрации. Разумеется, реставрация не означает простого «возврата к старому» и никогда им не бывает.
форме это всего лишь означает, что он сторонник такой жизни, в которой театра не существует. Но такой она была лишь до рождения театра. Наш антитеатрал, вместо того чтобы возвыситься над театром, ставит себя хронологически ниже - не после, а до него - и смотрит сначала раскрученную назад киноленту, в конце которой неизбежно появится театр. Со всеми этими анти та же история, что приключилась, согласно легенде, с Конфуцием. Он родился, как водится, позже своего отца, но родился-то, черт возьми, уже восьмидесятилетним, когда родителю было не больше тридцати. Всякое анти-лишь пустое и пресное нет.
Было бы недурно, если бы безоговорочное «нет» могло покончить с прошлым. Но прошлое по своей природе revenant*. Как ни гони его, оно вернется и неминуемо возникнет. Поэтому единственный способ избавиться от него - это не гнать. Прислушиваться к нему. Не выпускать его из виду, чтобы перехитрить и ускользнуть от него. Короче, жить «на высоте своего времени», обостренно чувствуя историческую обстановку.
У прошлого своя правда. Если с ней не считаться, оно вернется отстаивать ее и заодно утвердит свою неправду. У либерализма правда была, и надо признать это per saccula saeculorum**. Но была и не только правда, и надо избавить либерализм ото всего, в чем он оказался не прав. Европа должна сохранить его суть. Иначе его не преодолеть. О фашизме и большевизме я заговорил походя и бегло, отметив лишь их архаические черты. Такие черты, на мой взгляд, сегодня присущи всему, что кажется победоносным. Ибо сегодня торжествует массовый человек, и лишь то, что внушено им и пропитано его плоским мышлением, может одержать видимость победы. Ограничиваясь этим, не стану вдаваться в суть упомянутых течений, равно как и пытаться решить вечную дилемму эволюции и революции. Единственное, чего я хочу, - чтобы та и другая были историчны, а не выглядели анахронизмом.
Проблема, над которой я бьюсь, политически нейтральна, потому что коренится глубже, чем политика с ее распрями. Консерваторы в такой же мере массовые люди, как радикалы, и разница между ними, которая и всегда-то
Привидение (франц.).
* Во веки веков (лат.).
была поверхностной, нимало не мешает им быть одним и тем же - восставшей чернью.
Европе не на что надеяться, если судьба ее не перейдет в руки людей, мыслящих «на высоте своего времени»,-людей, которые слышат подземный гул истории, видят реальную жизнь в ее полный рост и отвергают саму возможность архаизма и одичания. Нам понадобится весь опыт истории, чтобы не кануть в прошлое, а выбраться из него.
Доклад на III Всесоюзной школе по проблеме сознания. Батуми, 1984 г.
Тема, вынесенная в заголовок, конечно, очень многозначна, вызывает обилие ассоциаций, но для меня она конкретна и связана с ощущением современной ситуации, которая меня беспокоит и в которой я вижу черты, похожие на какую-то структуру, могущую оказаться необратимой и этим вызывающую у меня ужас, но и одновременно желание подумать, увидеть за этим какой-то общий закон. И вот со смешанным чувством ужаса и любопытствующего удивления я и хочу высказать свои соображения на этот счет.
Чтобы задать тон размышления, можно так охарактеризовать их нерв. У меня ощущение, что среди множества катастроф, которыми славен и угрожает нам XX в., одной из главных и часто скрытой от глаз является антропологическая катастрофа, проявляющаяся совсем не в таких экзотических событиях, как столкновение Земли с астероидом, и не в истощении ее естественных ресурсов или чрезмерном росте населения, и даже не в экологической или ядерной трагедии. Я имею в виду событие, происходящее с самим человеком и связанное с цивилизацией в том смысле, что нечто жизненно важное может необратимо в нем сломаться в связи с разрушением или просто отсутствием цивилизованных основ процесса жизни.
Цивилизация — весьма нежный цветок, весьма хрупкое строение, и в XX в. совершенно очевидно, что этому цветку, этому строению, по которому везде прошли трещины, угрожает гибель. А разрушение основ цивилизации что-то производит и с человеческим элементом, с человеческой материей жизни, выражаясь в антропологической катастрофе, которая, может быть, является прототипом любых иных, возможных глобальных катастроф.
Она может произойти и частично уже происходит в силу нарушения законов, по которым устроено человеческое сознание и связанная с ним «пристройка», называемая цивилизацией.
Когда в списке глобальных катастроф, составленном знаменитым писателем-фантастом А. Азимовым, я нахожу среди десятка катастроф, возможное столкновение Земли с черной дырой, то невольно думаю, что подобная дыра уже существует, причем в весьма обыденном, хорошо известном нам смысле. Что мы довольно часто в нее ныряем, и все, что, пройдя ее горизонт, попадает в нее, тут же исчезает, становится недоступным, как и полагается в случае встречи с черной дырой. Очевидно, существует какая-то фундаментальная структура сознания, в силу чего наблюдаемые разнородные, внешне друг с другом никак не связанные микроскопические, макроскопические и космические явления предстают как далеко идущие аналогии. В каком-то смысле эти явления можно рассматривать как метафоры свойств сознания 1 .
Этими метафорами «недоступности», «исчезновения», «экранирования» я и воспользуюсь для пояснения своих мыслей. Но сначала приведу одно стихотворение Г. Бенна в фактически подстрочном моем переводе 2 . Глубина прозрений этого поэта связана с реальностью самолично проделанного и изнутри пережитого им опыта жизни в условиях определенной системы, опыта, который в принципе отсутствует у внешнего, удаленного наблюдателя. Но вот какова судьба этого «внутреннего знания» и носителя его — человека — в стихотворении, которое не случайно называется «Целое»:
Часть в опьянении была, другая часть — в слезах,
В какие-то часы — сиянье блеска, в другие — тьма,
В одни — все в сердце было, в другие ж — грозно
Бушевали бури — какие бури, чьи?
Всегда несчастлив и редко с кем то,
Все больше был укрыт, раз в глубине варилось это,
И вырывалися потоки, нарастая, и все,
Что вне, к нутру сводилось.
Один сурово на тебя глядел, другой был мягок,
Что строил ты, один то видел, другой — лишь то, что разрушал.
Но все, что видели они, — виденья половинки:
Ведь целым обладаешь только ты.
Сперва казалось: цели ждать недолго:
И только ясной будет вера впредь.
109, Но вот предстало то, что должно было,
И каменно теперь из целого глядит:
Ни блеска, ни сияния снаружи,
Чтоб напоследок приковать твой взор —
Гологоловый гад в кровавой луже,
И на реснице у него слезы узор.
Завершающий образ этого стихотворения и его внутренние связки вьются вокруг «целого» или ощущения «целого», переживаемого поэтом как особое возвышенное умонастроение и владение сутью мировой тайны, что я и называю недоступным удаленному, внешнему наблюдателю «внутренним опытом» особого рода странных систем, в котором — и в этом все дело — человек, его носитель, недоступен и самому себе. Ибо, по существу, человек не весь внутри (в теле, мозге, мысли) и идет к самому себе издалека и в данном случае никогда не доходит. Эти связки стихотворения в том или ином виде будут проступать в дальнейшем изложении.
ПРИНЦИП ТРЕХ «К»
Все последующее я сконцентрирую вокруг определенного принципа, позволяющего, с одной стороны, охарактеризовать ситуации, которые я назову описуемыми или нормальными (в них нет мистики «целого», фигурирующей в стихотворении, хотя они представляют собой целостности), а с другой — ситуации, которые я назову неописуемыми, или «ситуациями со странностью». Эти два типа ситуаций родственны или зеркально взаимоотобразимы, в том числе и потому, что все в них происходящее может выражаться одним и тем же языком, т. е. одним и тем же составом и синтаксисом предметных номинаций (наименований) и знаковых обозначений. «Внутреннее знание» есть и в том и в другом случае. Однако во втором случае оно вырождается фактически в систему самоимитаций. Язык хотя и тот же, но мертвый («дурно пахнут мертвые слова» — писал Н. Гумилев).
Неописуемые (не поддающиеся описанию) ситуации можно назвать и ситуациями принципиальной неопределенности. При обособлении и реализации этого свойства в чистом виде они как раз и являются теми «черными дырами», в которые могут попадать целые народы и обширные области человеческой жизни. Принцип, который упорядочивает ситуации этих двух типов, я назову принципом трех «К» — Картезия (Декарта), Канта и Кафки. Первое «К» (Декарт): в мире имеет место и случается некоторое простейшее и непосредственно очевидное бытие «я есть». Оно, подвергая все остальное сомнению, не только обнаруживает определенную зависимость всего происходящего в мире (в том числе в знании) от собственных действий человека, но и является исходным пунктом абсолютной достоверности и очевидности для любого мыслимого знания. В этом смысле человек — существо, способное сказать «я мыслю, я существую, я могу»; и есть возможность и условие мира, который он может понимать, в котором может по-человечески действовать, за что-то отвечать и что-то знать. И мир, следовательно, создан (в смысле своего закона становления), и дело теперь за тобой. Ибо создается такой мир, что ты можешь мочь, каковы бы ни были видимые противо-необходимости природы, стихийно-естественные понуждения и обстоятельства.
В этих формулировках легко узнается принцип «cogito ergo sum», которому я придал несколько иную форму, более отвечающую его действительному содержанию. Если принцип первого «К» не реализуется или каждый раз не устанавливается заново, то все неизбежно заполняется нигилизмом, который можно коротко определить как принцип «только не я могу» (могут все остальные — другие люди, Бог, обстоятельства, естественные необходимости и т. д.) т. е. возможность связана в таком случае с допуском некоторого самодействующего, за меня работающего механизма (будь то механизм счастья, социального и нравственного благоустройства, высшего промысла, провидения и т. д.). А принцип cogito утверждает, что возможность способна реализоваться только мной при условии моего собственного труда и духовного усилия к своему освобождению и развитию (это, конечно, труднее всего на свете). Но лишь так душа может принять и прорастить «высшее» семя, возвыситься над собой и обстоятельствами, в силу чего и все, что происходит вокруг, оказывается не необратимо, не окончательно, не задано целиком и полностью. Иначе говоря, не безнадежно. В вечно становящемся мире для меня и моего действия всегда есть место, если я готов начать все сначала, начать от себя, ставшего.
Второе «К» (Кант): в устройстве мира есть особые «интеллигибельные» (умопостигаемые) объекты (измерения), являющиеся в то же время непосредственно, опытно констатируемыми, хотя и далее неразложимыми образами целостностей, как бы замыслами или проектами развития. Сила этого принципа в том, что он указывает на условия, при которых конечное в пространстве и времени существо (например, человек) может осмысленно совершать на опыте акты познания, морального действия, оценки, получать удовлетворение от поиска и т. п. Ведь иначе ничто не имело бы смысла — впереди (да и сзади) бесконечность. Другими словами, это означает, что в мире реализуются условия, при которых указанные акты вообще имеют смысл (всегда дискретный и локальный), т. е. допускается, что мир мог бы быть и таким, что они стали бы бессмысленными.
Осуществление и моральных действий, и оценок, и ищущего желания имеет смысл лишь для конечного существа. Для бесконечного и всемогущего существа вопросы об их осмысленности сами собой отпадают и тем самым решаются. Но и для конечного существа не всегда и не везде, даже при наличии соответствующих слов, можно говорить «хорошо» или «плохо», «прекрасно» или «безобразно», «истинно» или «ложно». Например, если одно животное съело другое, мы ведь не можем с абсолютной достоверностью сказать, благо это или зло, справедливо или нет. Так же как и в случае ритуального человеческого жертвоприношения. И когда современный человек пользуется оценками, нельзя забывать, что здесь уже скрыто предполагается как бы выполненность условий, придающих вообще смысл нашей претензии на то, чтобы совершать акты познания, моральной оценки и т. д. Поэтому принцип второго «К» и утверждает: осмысленно, поскольку есть особые «умопостигаемые объекты» в устройстве самого мира, гарантирующие это право и осмысленность.
И, наконец, третье «К» (Кафка): при тех же внешних знаках и предметных номинациях и наблюдаемости их натуральных референтов (предметных соответствий) не выполняется все то, что задается вышеназванными двумя принципами. Это вырожденный, или регрессивный, вариант осуществления общего К-принципа — «зомби»-ситуации 3 , вполне человекоподобные, но в действительности для человека потусторонние, лишь имитирующие то, что на деле мертво. Продуктом их, в отличие от Homo sapiens, т. е. от знающего добро и зло, является «человек странный», «человек неописуемый».
С точки зрения общего смысла принципа трех «К», вся проблема человеческого бытия состоит в том, что нечто еще нужно (снова и снова) превращать в ситуацию, поддающуюся осмысленной оценке и решению, например, в терминах этики и личностного достоинства, т. е. в ситуацию свободы или отказа от нее как одной из ее же возможностей. Иными словами, моральность есть не торжество определенной морали (скажем, «хорошее общество», «прекрасная институция», «идеальный человек), сравниваемой с чем-то противоположным, а создание и способность воспроизводства ситуации, к которой можно применить термины морали и на их (и только их) основе уникально и полностью описать.
Но это же означает, следовательно, что имеют место и некоторые первоакты или акты мировой вместимости (абсолюты), относящиеся к кантовским интеллигибилиям и декартовскому cogito sum. Именно ими и в них — на уровне своей развитости — человек может вместить мир и самого себя как его часть, воспроизводимую этим же миром в качестве субъекта человеческих требований, ожиданий, моральных и познавательных критериев и т. д. Например, взгляд художника есть первоакт вместимости и испытания природы как пейзажа (вне этого необратимого состояния природа сама по себе не может быть источником соответствующих человеческих чувств).
Фактически это означает следующее: никакое натуральное внешнее описание, скажем, актов несправедливости, насилия и т. п. не содержит в себе никаких причин для наших чувств возмущения, гнева, вообще ценностных переживаний. Не содержит без добавления фактической («практической») выполненности или данности разумного состояния. Того, что Кант называл «фактами разума»: не разумным знанием конкретных фактов, их, так сказать, отражениями, а самим разумом как осуществленным сознанием, которое нельзя предположить заранее, ввести допущением, заместить «могущественным умом» и т. д. И если такой «факт» есть, он всеместен и всевременен.
Например, мы не можем сказать, что в Африке какое-то племя живет безнравственно или что в Англии что-то нравственно, а в России — безнравственно, вне реализации первой и второй частей К-принципа. Но если есть и совершились акты первовместимости, и мы находимся в преемственной связи с ними, включены в нее, то тогда мы можем что-то осмысленно говорить, достигая при этом полноты и уникальности описания.
СИТУАЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В ситуациях же третьего «К», называемых ситуациями абсурда, внешне описываемых теми же самыми предметными и знаковыми номинациями, актов первовместимости нет или они редуцированы. Такие ситуации инородны собственному языку и не обладают человеческой соизмеримостью (ну, как если бы недоразвитое «тело» одной природы выражало себя и давало бы о себе отчет в совершенно иноприродной «голове»). Они похожи на кошмар дурного сна, в котором любая попытка мыслить и понять себя, любой поиск истины походил бы своей бессмысленностью на поиск уборной. Кафкианский человек пользуется языком и следует пафосу своего поиска в состояниях, где заведомо не выполнены акты первовместимости. Поиск для него — чисто механический выход из ситуации, автоматическое ее разрешение — нашел, не нашел! Поэтому этот неописуемо странный человек не трагичен, а нелеп, смешон, особенно в квазивозвышенных своих воспарениях. Это комедия невозможности трагедии, гримаса какого-то потустороннего «высокого страдания». Невозможно принимать всерьез ситуацию, когда человек ищет истину так, как ищут уборную, и наоборот, ищет на деле всего-навсего уборную, а ему кажется, что это истина или даже справедливость (таков, например, господин К. в «Процессе» Ф. Кафки). Смешно, нелепо, ходульно, абсурдно, какая-то сонная тягомотина, нечто потустороннее.
Эта же инородность уже в другом ключе выражается у Кафки и метафорой всеобщего внутреннего окостенения, например, когда Грегор Замза превращается в какое-то скользкое отвратительное животное, которое он с себя не может стряхнуть. Что это, почему приходится прибегать к таким метафорам? Сошлюсь на более близкий пример.
Можно ли, скажем, применять понятия «мужество» и «трусость» или «искренность» и «лживость» к ситуациям, в которые попадает «третий», неописуемый человек (я назову их ситуациями, в которых «всегда уже поздно»). Ну, например, такой ситуацией являлось до недавнего времени пребывание советского туриста за границей. Он мог попадать там в такие положения, когда от него требовалось лишь проявление личного достоинства, естественности. Просто быть мужчиной, не показывая своим видом, что ждешь указаний о том, как себя вести, что ответить на тот или иной конкретный вопрос и т. д. И некоторые были склонны тогда рассуждать так, что турист, который не проявил себя как настоящий цивилизованный человек, труслив, а тот, который проявил, — мужествен. Однако к этому туристу неприменимы суждения, труслив он или храбр, искренен или не искренен, по той простой причине, что за границей он оказался на основе определенной привилегии, и поэтому уже поздно что-то проявить от себя лично. Это нелепо, над этим можно только посмеяться.
Ситуация абсурда неописуема, ее можно лишь передать гротеском, смехом. Язык добра и зла, мужества и трусости к ней не относится, поскольку она вообще не в области, очерченной актами первовместимости. Язык же в принципе возникает на основе именно этих актов. Или, скажем, известно, что выражение «качать права» относится к поступкам человека, который формально добивается закона. Но если все действия человека уже «сцеплены» ситуацией, где не было первоакта закона, то поиск им последнего (а он совершается в языке, который у нас один и тот же — европейский, идущий от Монтескье, Монтеня, Руссо, от римского права и т. д.) никакого отношения к этой ситуации не имеет. А мы, живя в одной ситуации, часто пытались и пытаемся, тем не менее, понять ее в терминах другой, начиная и проходя путь господина К. в «Процессе». Действительно, если есть семена ума, то можно представить себе и волосы ума. Представим, что волосы у человека растут на голове внутрь (вместо того, чтобы, как полагается, расти наружу), вообразим мозг, заросший волосами, где мысли блуждают, как в лесу, не находя друг друга и ни одна из них не может оформиться. Это первобытное состояние гражданской мысли. Цивилизация же — это прежде всего духовное здоровье нации, и поэтому надо в первую очередь думать о том, чтобы не нанести ей такие повреждения, последствия которых были бы необратимы.
Итак, перед нами неопределенные ситуации и ситуации первых двух «К», имеющие один и тот же язык. И эти два типа ситуаций фундаментально различны. И то неуловимое, внешне неразличимое и невыразимое, чем отличается, например, слово «мужество» в этих ситуациях, и есть сознание.
ФОРМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЦИВИЛИЗАЦИИ
Для дальнейшего понимания связи сознания и цивилизации вспомним другой сформулированный Декартом закон мышления, имеющий отношение ко всем человеческим состояниям, включая и те, в которых формулируется причинная связь событий в мире. По Декарту мыслить исключительно трудно, в мысли нужно держаться, ибо мысль есть движение и нет никакой гарантии, что из одной мысли может последовать другая в силу какого-то рассудочного акта или умственной связи. Все существующее должно превосходить себя, чтобы быть собой в следующий момент времени. При этом то, что я есть сейчас, не вытекает из того, что я был перед этим, и то, что я буду завтра или в следующий момент, не вытекает из того, что я есть сейчас. Значит, мысль, которая возникает в следующий момент времени, там не потому, что начало ее или кусочек есть сейчас.
Цивилизация есть способ обеспечения такого рода «поддержек» мышления. Она обеспечивает систему отстранений от конкретных смыслов и содержаний, создает пространство реализации и шанс для того, чтобы мысль, начавшаяся в момент, А, в следующий момент Б могла бы быть мыслью. Или человеческое состояние, начавшееся в момент, А, в момент Б могло бы быть человеческим состоянием. Приведу пример.
Сегодня наблюдается какая-то упоенность специальным мышлением. Считается, что именно оно и есть настоящее мышление, осуществляющееся как бы само собой. К такому выделенному мышлению можно отнести искусство и любые другие сферы так называемого духовного творчества. Однако умение мыслить — не привилегия какой-либо профессии. Чтобы мыслить, необходимо мочь собрать не связанные для большинства людей вещи и держать их собранными. К сожалению, большинство людей по-прежнему, как и всегда, мало к чему сами по себе способны и ничего не знают, кроме хаоса и случайности. Умеют лишь звериные тропы пролагать в лесу смутных образов и понятий.
Между тем, согласно принципу первого «К» («я могу»), чтобы держаться в мысли, нужно иметь «мускулы мысли», наращиваемые на базе некоторых первоактов. Другими словами, должны быть проложены тропы связного пространства для мышления, которые есть тропы гласности, обсуждения, взаимотерпимости, формального законопорядка. Такой законопорядок и создает пространство и время для свободы интерпретации, собственного испытания. Есть закон названности собственным именем, закон именованности. Он — условие исторической силы, элемент ее формы. Форма, по существу, — единственное, что требует свободы. В этом смысле можно сказать, что законы существуют только для свободных существ. Человеческие учреждения (а мысль — тоже учреждение) есть труд и терпение свободы. И цивилизация (пока ты трудишься и мыслишь) как раз и обеспечивает, чтобы нечто пришло в движение и разрешилось, установился смысл, и ты узнал, что думал, хотел, чувствовал, — дает для всего этого шанс.
Но тем самым цивилизация предполагает, следовательно, и наличие в себе клеточек незнаемого. Если не оставлять места проявлению не вполне знаемого, цивилизация, как и культура (что, по сути, одно и то же), исчезает. Например, экономическая культура производства (т. е. не только материальное воспроизводство конечных благ, умирающих в акте их потребления) означает, что неправомерна такая структура управления, которая определяла бы, когда крестьянину сеять, и распределением этого знания охватывала бы все пространство его деятельности. Повторяю, должен быть допуск на автономное появление в каких-то местах вещей, которых мы не знаем и не можем знать заранее или полагать их в какой-то всеведущей голове.
Еще один пример. К. Маркс говорил, что о природе денег сказано столько же глупостей, сколько о природе любви. Но, допустим, что природа денег неизвестна и закреплена в формальном цивилизованном механизме, что люди освоили деньги как культуру настолько, что можно не просто считать, но и с их помощью что-то производить. Почему это возможно? По одной простой причине: в этом случае предполагается, что обмен денег на покупаемый продукт сам, в свою очередь, не требует времени, поскольку в них уже закреплено трудовое время. И такое поведение — цивилизованное. Такая абстракция закреплена самой цивилизацией в цивилизованном устройстве человеческого опыта. А поведение похожее, но «зеркальное» — нецивилизованное. Когда культурного механизма денег нет, то появляется и существует зазеркальное поведение с деньгами, которое состоит в том, что если, скажем, заработано 24 рубля (т. е. вложено 8 часов труда), то, чтобы их потратить, нужно затратить еще 10 часов, т. е. еще 30 рублей. В таком сознании, разумеется, отсутствует понятие денег как ценности. В этом случае, пользуясь знаком денежного знака, мы не можем просчитать экономику, организовать рациональную схему экономического производства. А мы пользуемся денежными знаками и, более того, попав в это денежное зазеркалье с теми же, казалось бы, предметами, решили «квадратуру круга» — умудрились, не зная цену деньгам, стать корыстными и хитрыми.
Итак, цивилизация предполагает формальные механизмы упорядоченного, правового поведения, а не основанные на чьей-то милости, идее или доброй воле. Это и есть условие социального, гражданского мышления. «Даже если мы враги, давайте вести себя цивилизованно, не рубить сук, на котором сидим», — этой простой, по существу, фразой и может быть выражена суть цивилизации, культурно-правового, надситуативного поведения. Ведь, находясь внутри ситуации, договориться навечно не причинять друг другу вреда нельзя, поскольку кому-то всегда будет «ясно», что он должен восстановить нарушенную справедливость. Зла, которое совершалось бы без такой ясной страсти, в истории не бывало, ибо всякое зло случается на самых лучших основаниях, и эта фраза вовсе не ироническая. Энергия зла черпается из энергии истины, уверенности в видении истины. Цивилизация же блокирует это, приостанавливает настолько, насколько мы, люди, вообще на это способны.
Короче говоря, разрушение, обрыв «цивилизованных нитей», по которым сознание человека могло бы успеть добраться до кристаллизации истины (причем, не только у отдельных героев мысли), разрушает и человека. Когда под лозунгом потустороннего совершенства устраняются все формальные механизмы, именно на том основании, что они формальны, а значит, абстрактны в сравнении с непосредственной человеческой действительностью, легко критикуемы, то люди лишают себя и возможности быть людьми, т. е. иметь не распавшееся, не только знаковое сознание.
МОНОПОЛИЯ И РАЗРУШЕНИЕ СОЗНАНИЯ
Приведу другой пример такого разрушения. Известно, что система, называемая монополией, стоит вне цивилизации, так как разрушает само ее тело, порождая тотальное опустошение человеческого мира. Не только в том смысле, что монополия поощряет самые примитивные и асоциальные инстинкты и создает каналы для их проявления. Достигнутое состояние мысли еще должно «обкататься», как на агоре, обрасти там мускулами, как обрастает снегом снежная баба, приобрести силу на осуществление своей же собственной возможности. Если нет агоры, чего-то развиваемого, то нет и истины.
Хотя перед человеком издревле стоит задача обуздания дикости, свирепости, эгоизма собственной природы, его инстинкты, алчность, темнота сердца, бездушие и невежество вполне способны аккомодировать мыслительные способности, рассудок и выполняться посредством их. И противостоять этому может только гражданин, имеющий и реализующий право мыслить своим умом. А это право или закон могут существовать лишь в том случае, когда средства достижения целей, в свою очередь, законны, т. е. растворенно содержат в себе дух самого закона. Нельзя волепроизвольными и административными, т. е. внезаконными средствами внедрять закон, даже руководствуясь при этом наилучшими намерениями и высокими соображениями, «идеями». Ибо его приложения распространяют тогда (и чем шире и жестче приложения, тем они болезненнее) прецедент и образец беззакония, содержащегося в таких средствах. И все это — независимо от намерений и идеалов — «во благо» и «во спасение». Это очевидно в случае всякой монополии. Скажем так: если я могу, пусть ради самых высших соображений общественного блага, в один прекрасный день установить специальную цену на определенные товары, скрывать и тайно перераспределять доходы, назначать льготы, распределять товары, во имя плановых показателей менять предшествующие договоренности с трудящимися и т. д. и т. п. , то в тот же самый день (и впредь — по вечной параллели) это же будет делаться кем-то и где-то (или теми же и там же) из совершенно других соображений. Из личной корысти, путем спекуляции, обмана, насилия, кражи, взятки — конкретные причины и мотивы в структурах безразличны, взаимозаменимы. Потому что закон един и неделим во всех точках пространства и времени, где действуют люди и между собой связываются. В том числе и законы общественного блага. Следовательно, цели законов достигаются только законными путями! И если последние нарушаются, то в том числе и потому, что правопорядок обычно подменяют порядком идей, «истины». Как будто закон сам по себе существует, а не в человеческих индивидах и не в понимании ими своего дела. Возможность обойти индивида исключена не в силу гуманистического предпочтения и заботы о человеке, а в силу непреложного устройства самого бытия, жизни. Только на уровне сущностного равенства индивидов может что-либо происходить. Здесь никому ничего не положено, все должны сами проходить путь и совершать собственное движение «в средине естества», как писал когда-то Державин. Движение, без которого нет вовне никаких обретений и установлений. В противном случае будет разрушено все производство истины — ее онтологическая основа и природа — и будет господствовать ложь, другими причинами производимая, но уже внечеловеческая и тотальная, занимающая все точки социального пространства, заполняющая их знаками. Игра в зеркалах, сюрреально-знаковое отражение чего-то другого.
ЗЕРКАЛЬНЫЙ МИР
Конечно, появление такой зеркальной игры связано с ее особыми внутренними «зазеркальными» смыслами, когда кажется, что они и в самом деле обладают какой-то высшей мудростью. Ведь люди при этом видят целое. Для них внешний наблюдатель всегда не прав. Вспомним Г. Бенна: «…ведь целым обладаешь только ты».
Один наблюдатель видит то, что разрушают, другой, что строят, а многие смотрят и перемигиваются: мы-то знаем, что происходит на «самом деле», «целым располагаем». Вот что такое «внутреннее». Но для меня эта внутренняя, углубленная в себя жизнь без агоры то же самое, что искание истины в уборной. Если бы у меня был талант Кафки, я бы описал сегодня эти душевные внутренние искания как фантастические, странные искания истины там, где ее по онтологическим законам человеческой жизни быть просто не может.
В этом смысле люди неопределенных ситуаций или тотального знакового инобытия напоминают мне тех, кого Ф. Ницше не случайно назвал «последними людьми». Действительно (именно об этом крик его больной христианской совести), или мы будем «сверхлюдьми», чтобы быть людьми (а два первые принципа «К» и есть принципы трансценденции человека к человеческому в нем же самом), или окажемся «последними людьми». Людьми организованного счастья, которые даже презирать себя не могут, ибо живут в ситуации разрушенного сознания и разрушенной материи человеческого.
Следовательно, если где-то происходят человеческие события, то они происходят не без участия сознания; последнее из их состава неустранимо и несводимо ни к чему другому. И это сознание двоично в следующем фундаментальном смысле. При введении принципа трех «К» я фактически давал два пересекающихся плана. План того, что я называл онтологией, который не может быть ничьим реальным переживанием, но тем не менее есть; например, таким переживанием не может быть смерть, а символ смерти есть продуктивный момент человеческой сознательной жизни. И второй — план «мускульный», реальный — умение жить под этим символом на деле, на основе актов первовместимости. И оба эти плана нельзя игнорировать: сознание фундаментально двоично. В зазеркалье же, где меняются местами левое и правое, все смыслы переворачиваются и начинается разрушение человеческого сознания. Аномальное знаковое пространство затягивает в себя все, что с ним соприкасается. Человеческое сознание аннигилирует и, попадая в ситуацию неопределенности, где все перемигиваются не то что двусмысленно, но многосмысленно, аннигилирует и человек: ни мужества, ни чести, ни достоинства, ни трусости, ни бесчестия. Эти «сознательные» акты и знания перестают участвовать в мировых событиях, в истории. Не имеет значения, что у тебя в «сознании», лишь бы знак подавал. В пределе при этом исчезает необходимость и в том, чтобы у людей вообще были какие-то убеждения. Веришь в совершающееся или не веришь — не имеет значения, потому что именно подаваемым знаком ты включаешься в действие и вращение колес общественного механизма.
В XX в. такого рода ситуации хорошо осознавались в литературе. Я имею в виду при этом не только Ф. Кафку, но и, например, великого австрийского писателя, автора романа «Человек без свойств» Р. Музиля. Музиль прекрасно понимал, что в той ситуации, которая была в грозящей развалиться Австро-Венгерской империи в силу того, что уже поздно, все, что ни делай, выльется в какую-то белиберду. Ищи правду или неправду — все одно — пройдешь по уже заданным путям бессмыслицы. Он хорошо знал, что внутри такой ситуации действовать и мыслить невозможно — из нее важно выйти.
Чтобы не заставлять читателя слишком серьезно думать над некоторыми терминами (я имею в виду только термины, а не проблемы; над проблемой стоит думать серьезно, но мои термины необязательны), выражу свой опыт «зазеркального существования» так. Вся моя «теория» сознания может быть сведена к одному семени в одном раннем переживании. К первичному впечатлению точки встречи цивилизации, с одной стороны, и глухой жизни — с другой. Я чувствовал, что моя попытка оставаться человеком в охарактеризованной ситуации гротескна, смешна. Основы цивилизации были подорваны настолько, что невозможно было вынести наружу, обсудить, продумать собственные болезни. И чем меньше мы могли вынести их наружу, тем больше они, оставшись в глубине, в нас прорастали, и нас уже настигало тайное, незаметное разложение, связанное с тем, что гибла цивилизация, что нет агоры.
В 1917 г. рухнул гнилой режим, а нас все еще преследуют пыль и копоть прогнившей громады, продолжающаяся «гражданская война». Мир еще полон неоплаканных жертв, залит неискупленной кровью. Судьбы многих погибших неизвестно за что взыскуют о смысле случившегося. Одно дело погибнуть, завершая и впервые своей гибелью устанавливая смысл (например, в освободительной борьбе), и совсем другое — сгинуть в слепом одичании, так что после гибели нужно еще доискиваться ее смысла. Но кровь все равно проступает то там, то здесь, как на надгробьях праведников в легендах, в совершенно неожиданных местах и вне какой-то понятной связи.
И мы все еще живем как дальние наследники этой «лучевой» болезни, для меня более страшной, чем любая Хиросима. Наследники странные, мало пока что понявшие и мало чему научившиеся на своих собственных бедах. Перед нами поколения, как бы не давшие потомства, потому что неродившееся, не создавшее в себе почву, жизненные силы для прорастания не способно и рождать. И вот бродим по разным странам безъязыкие, с перепутанной памятью, с переписанной историей, не зная порой, что действительно происходило и происходит вокруг нас и в самих нас. Не чувствуя права на знание свободы и ответственности за то, как ею пользоваться. К сожалению, и сегодня еще огромные, обособленные пространства Земли заняты таким «зазеркальным антимиром», являя дикое зрелище вырожденного лика человека. Зазеркальные «пришельцы», которых можно себе представить лишь в виде экзотической помеси носорога и саранчи, сцепились в дурном хороводе, сея вокруг себя смерть, ужас и оцепенение непроясненного морока.
Полуночные и горбатые,
Несут они за плечами
Песчаные смерчи страха
И клейкую мглу молчанья.
4
И поэтому, когда я слышу об экологических бедствиях, возможных космических столкновениях, ядерной войне, лучевой болезни или СПИДе, все это кажется мне менее страшным и более далеким — может быть, я ошибаюсь, может, воображения не хватает, — чем те вещи, которые я описал и которые есть в действительности самая страшная катастрофа, ибо касается она человека, от которого зависит все остальное.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Можно напомнить в этой связи дискуссию по проблеме наблюдения в квантовой механике и по антропному признаку в космологии, которые показали фундаментальную включенность сознания в процессы познания физической реальности.
- Я воспользовался также литературным переводом В. Микушевича. См.: Поэзия Европы в трех томах. Т. 2, ч. 1. М., 1979, с. 221.
- Зомби — оживший мертвец, привидение, оборотень.
- Гарсиа Лорка Ф. Романс об испанской жандармерии. — Избранное. М., 1983, с. 73.
Из «Как я понимаю философию». М., 1992.
Эссе по обществознанию – это сочинение-рассуждение на заданную тему. Темой эссе является одна из выбранных экзаменуемым цитат. Цитаты принадлежат известным людям и расположены в соответствии с тем, с какой наукой они связаны: философия, социальная психология, экономика, социология, политология. Что следует знать при написании эссе?
1. Прежде всего, следует внимательно прочесть инструкцию к разделу С8.
2. Выбор темы . При выборе темы следует исходить из того, материал какой темы вам наиболее знаком, насколько вы владеете терминологией данной науки, насколько убедительны вы можете быть в аргументации своих утверждений.
3. Объем работы . К объему эссе по обществознанию не предъявляется строгих требований. Но общепринятой практикой является выполнение заданий С1-С7 на одной стороне бланка №2, а С8 – на другой, при полном использовании его площади. Поэтому при подготовке к экзамену следует сразу привыкать к работе на стандартном листе формата А4.
4. Начните работу с написания цитаты, имени цитируемого, науки и номера задания (С8.3 – экономика. «Деньги рождают деньги» (Т.Фуллер). Это позволит вам во время работы не обращаться постоянно к бланку заданий, да и проверяющему будет легче анализировать ваш труд.
5. Интерпретация цитаты . Прежде всего следует объяснить, как вы понимаете высказанную в цитате мысль. Одна и та же цитата может пониматься разными людьми по-разному или хотя бы толковаться с различными нюансами. Это позволит вам и проверяющему четко представлять, в каком ключе последует дальнейшее рассуждение. Интерпретация цитаты займет два-три предложения. Упомяните, кем являлся цитируемый, если это вам известно.
6. Далее следует выразить свое отношение к высказанной и интерпретируемой вами мысли. Вы можете с нею согласиться или не согласиться либо согласиться частично. От вашей оценки будет зависеть, доказывать, опровергать или частично доказывать и частично опровергать вы будете цитируемого. Разумеется, следует пояснить выбранную вами позицию. Эта часть работы также займет несколько предложений.
7. Основная часть работы – ваше рассуждение с использованием знаний по курсу. При этом рекомендуется использовать 5-6 терминов строго по выбранной тематике, в нашем примере – экономических. Термины и понятия следует употреблять к месту, а не как попало, механически, пару из них можно расшифровать, демонстрируя свой словарный запас. Напомним еще раз: рассуждение и терминология должны соответствовать выбранной тематике.
8. Аргументация . Рассуждение должно подкрепляться аргументами. В качестве аргументов могут применяться истинные, логически правильные умозаключения, примеры, ссылки на авторитетное мнение. Чаще всего в эссе школьников используются примеры. Лучше, если это будут факты из научной практики, публицистики, художественной литературы. Менее предпочтительны бытовые примеры. Лучше всего привести 2-3 примера из области науки, новостного характера или художественной литературы, один из бытовой практики. Если ваши примеры-аргументы описаны подробно, достаточно и двух. Аргументация может органично вплетаться в текст вашего рассуждения по теме, а может стать и самостоятельной частью работы, занимая отдельный абзац.
9. Работа заканчивается подведением итогов, выводом, в котором автор подтверждает свое понимание высказанной мысли. После этого работу можно считать законченной.
10. Проверьте свою работу на предмет поиска ошибок, соответствия теме, наличию уместных понятий и терминов, аргументов. Разумеется, текст должен быть понятным, грамотным, почерк разборчивым. Желательно хотя бы предварительные наметки эссе сделать в черновике.
Темы для обдумывания до субботы
1) «Создает человека природа, но развивает и образует его общество» (В.Г. Белинский).
2) «Прогресс – это движение по кругу, но все более быстрое». Л. Левинсон.
3) «Революция – это переход от неправды к правде, от лжи к истине, от угнетения к справедливости, от обмана и страданий к прямолинейной честности и счастью» Р. Оуэн
4) 'Революции – варварский способ прогресса.' (Ж. Жорес)
5) 'Народ, лишенный искусства свободы будет настигнут двумя классическими опасностями: анархией и деспотией' (И. А. Ильин)
6) «Вам не удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов» (Ж.-Ж. Руссо)
7) «Человек – единственное создание, подлежащее воспитанию. Человек может стать человеком только путем воспитания». (И. Кант).
8) «Одно поколение воспитывает другое» (И. Кант).
9) «Доброе воспитание как раз есть то, из чего возникает все добро на свете». (И. Кант).
10) «Воспитание есть искусство, применение которого должно совершенствоваться многими поколениями» (И. Кант).
11) «Врожденные дарования подобны диким растениям и нуждаются в выращивании с помощью учебных занятий» (Ф. Бэкон).
12) «Ребенок в момент рождения не человек, а кандидат в человека» (А. Пьеррон).
13) «В человеке обязанности царя осуществляет разум» (Э. Роттердамский).
14) «Цивилизация есть опыт обуздания силы» (Х. Ортега- и -Гассет).
15) «Свобода сопряжена с ответственностью, поэтому-то многие и боятся ее». (Б. Шоу).
16) «Вершина нас самих, венец нашей оригинальности – не наша индивидуальность, а наша личность» (И. Кант)
17) « Поведение есть зеркало, в котором каждый показывает свой образ» (Г. Гегель).
18) «Цивилизация не удовлетворение потребностей, а их умножение» (В. Гжещик).
19) «Чем меньше мы себя знаем, тем на большее замахиваемся» (Э. Сервус).
20) «Единственная проблема современности заключается в том, сумеет ли человек пережить свои собственные изобретения» (Луи де Бройль (1892- 1987) - фр. физик-теоретик, один из основоположников квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике 1929)
21) «Мы были достаточно цивилизованны, чтобы построить машину, но слишком примитивны, чтобы ею пользоваться» (К. Краус).
22) «Мир замкнулся. Земной шар стал единым… Все существенные проблемы стали мировыми проблемами» (К. Ясперс).
23) «Человек вне общества – или бог, или зверь» (Аристотель).
24) «Философия - деятельность, доставляющая счастливую жизнь рассуждениями и диалогами» Эпикур
25) «Человек - единственное животное, для которого собственное существование является проблемой: ее он должен решить и от нее нельзя никуда уйти» Э. ФРОММ (1900-80)
26) «Нравственный закон, который человек должен свободно открыть в себе, автоматически дает свои предписания, одинаковые для всех людей и для всех случаев жизни» Н. Бердяев
27) «У нас нет времени, чтобы стать самим собой» А. Камю
28) «Люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть» К. Гельвеций
29) «Вследствие разницы климатов, умов, энергий, вкусов, возраста, зрений равенство среди людей никогда невозможно. Неравенство поэтому следует считать непреложным законом природы. Но мы можем сделать неравенство незаменимым...» А. Чехов
30) «Общество без расслоения с реальным равенством всех его членов - миф, так никогда и не ставший реальностью за всю историю человечества» П. Сорокин
31) «Если человек зависит от природы, то и она от него зависит: она его создала – он ее переделывает» (А. Франс).
32) «Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без деятельности нет жизни». (В.Г. Белинский).
33) Без какой-либо цели и стремления к ней не живет ни один человек. Потеряв цель, человек обращается нередко в чудовище» (Ф.М. Достоевский).
34) «Никакая благородная цель не оправдывает мер, противных принципам человеческого счастья». (Н.С. Лесков).
35) «Человек вырастает по мере того, как растут его цели». (Ф. Шиллер).
36) «У каждого века своё средневековье» (С.Е. Лец).
37) «Прогресс наук и машин – это полезное средство, но единственной целью цивилизации является развитие человека» (Э. Флайано).
38) Гуманность, есть только привычка, плод цивилизации. Она может совершенно исчезнуть.
Ф. М. Достоевский
39) «Есть две мирные формы насилия: закон и приличия» И. Гете.
40) «Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают» (А. Г. Асмолов)
41) «Без борьбы нет прогресса» (Ф. Дуглас)
42) «Когда народ много знает, им трудно управлять» (Лао-Цзы)
См. «для вк ЕГЭ» бланки…
Проповедовать мораль легко, обосновать ее трудно». А. Шопенгауэр.
Что такое мораль? И почему согласно Шопенгауэру обосновать ее трудно? Мораль – это часть духовности, форма общественного сознания, это система норм, регулирующих поведение людей, основанная на общепринятых представлениях о добре и зле. Но категории добра и зла очень расплывчаты и когда дело доходит до моральной оценки, то начинаются сложности. Попробуем разобраться почему.
Чтобы понять сущность морали, сравним ее с другим регулятором человеческих отношений – правом. Мораль, как и право, нормативна по своей природе, но отличается от права своим содержательным, неформальным характером. Моральные предписания, нормы и принципы не всегда имеют четко фиксированный характер. Мораль обращена к человеку как к личности, который может контролировать свои поступки, и которому не чужды понятия совесть, долг, ответственность. Однако, за человеком всегда остается право выбора как поступить.
В настоящее время во многих странах законом разрешены аборты. То есть на женщину ложится огромная моральная ответственность – сохранить ли будущего ребенка или прервать нить его жизни. С точки зрения закона эти действия не будут являться убийством. А с точки зрения морали аборт это неправильно и общественное мнение отрицательно относится к такому решению. Но если женщина не может обеспечить будущего ребенка, если она смертельно больна – как тогда оценить ее действия с точки рения морали? Больше вопросов, чем ответов.
Мораль регулируется не только за счет самоконтроля, но и с внешней стороны. То есть общество в целом следит, регулирует и дает оценку действиям конкретного индивида.
В годы Великой Отечественной войны Сталин издал приказ: «Ни шагу назад!», который
заведомо обрекал людей на смерть. Таким способом, он хотел спасти страну и весь мир от фашизма. Возможно, в той сложной, трагической для страны ситуации поступить по- другому было невозможно.
Тем не менее, историки до сих пор спорят о том, не слишком ли высокая цена была заплачена за победу.
В этом и заключается исключительность морали – невозможность ее четко обосновать. Для каждого отдельного индивида и времени, когда он живет, есть свое понятие морали, нравственности.
Учитывая все выше сказанное, я полностью согласна с Шопенгауэром по данной теме. Мораль – это нечто объемное, это социальный регулятор жизни, очень гибкий и неподвластный перу. Как говорил Карл Маркс «Моральную силу невозможно создать параграфами закона». В этом правиле слишком много исключений, на мой взгляд.
«У искусства есть враг, имя которому - невежество». (Д. Кеннеди)
Эссе №1
Автор считает, что незнание, не способность разбираться в чем-либо, а тем более в искусстве может принести огромный вред искусству. И мы можем с этим согласиться. Невежество происходит от слова «ведать» (знать). Невежи - люди, ничего не знающие.
На протяжении многих веков в языке бытует эта фраза. Именно невежество, т.е. полное
отсутствие знаний в этой области, мешало развитию искусства, тем более, когда невежи находились у власти. Понимание искусства сложно. Так, искусство - это специфическая форма сознания и деятельности людей, отражающая мир в художественных образах. Для него характерны наглядность и образность, специфические способы воспроизведения действительности, фантазия и воображение. А это дается не всем. Не каждый может понять смысл того или иного произведения искусства.
Не секрет, что многие деятели искусств умерли в нищете из-за невеж, ведь из-за них произведения часто не доходили до общества. Например, многие фильмы до
«перестройки» пролежали на полках архивов Госкино, т.к. были запрещены цензурой. Или в итоге греко-римской войны из Греции были вывезены многие произведения искусств, но они ценились не по мере гениальности создания, а по мере ценности материала, из которого были сделаны. И вновь история как фарс повторяется дважды: при захвате Рима вандалы переплавляли золотые скульптуры в слитки. Можно до бесконечности приводить примеры, когда из-за невежества погибает то, что накоплено веками и что является бесценным. Следовательно, искусство будет развиваться лишь тогда, когда у него больше будет ценителей.
Эссе №2
Что такое искусство? У этого слова несколько значений. Искусством называют воспроизведение действительности в художественных образах; умение, мастерство, знание дела - например, искусство вязания; само дело - например, военное искусство. Пожалуй, чаще всего мы подразумеваем под искусством художественное творчество, направленное на создание чего-либо нового, оригинального, непохожего на то, что туже создано другими. Искусство очень обширно: оно включает в себя архитектуру, живопись, театр, и т.д. Нам известно немало произведений искусств, пришедших к нам с незапамятных времен: поэмы Гомера, творчество Леонардо да Винчи. Каждая эпоха рождала все новые и новые творения, которые нельзя ни с чем сравнить.
А как создаются шедевры искусства? Огромную роль играет любовь художника к жизни, к искусству, вдохновение. Автор создает свои произведения в муках творчества, часто в нищете, пытаясь правдиво передать мгновения жизни, свои мечты о гармонии мира, о единстве человека и природы. Но, к сожалению, во все времена существовала и такая черта, как невежество, т.е. отсутствие знаний, некультурность. Прежде всего, она заключалась в отрицании очевидных культурных ценностей, полном презрении к ним.
Например, во время Октябрьской революции и гражданской войны уничтожалось много памятников культуры, посвященных царям, государственным деятелям, церкви.
Невежественный народ не понимал, что это произведения искусства, он думал, что избавляется от буржуазных атрибутов. А во время инквизиции в XII-XVII в.в. в Европе было сожжено огромное количество картин и научных книг (проявление невежества католической церкви). Невежество нанесло непоправимый вред, потому что взгляды невежественного человека были загнаны в религиозные, бытовые рамки. Подводя итог, хочу согласиться с мнением автора и добавить, что разрешить проблему невежества возможно путем приобщения к духовным ценностям, развитием личности.
«Цивилизация есть стадия умирания культуры». (О. Шпенглер)
Развитие культуры и цивилизации неразрывно связаны: вне духовных ценностей, созданных в процессе культурной деятельности людей, не может сложиться и цивилизационная общность.
Некоторые исследователи полностью отождествляют культуру и цивилизацию. Такая
точка зрения зародилась еще в эпоху Просвещения, когда Вольтер, Тюрго рассматривали культуру прежде всего как развитие разума. При этом «культурность»,
«цивилизованность» нации или страны противопоставлялось «дикости» и «варварству»
первобытных народов.
Однако немецкий философ О. Шпенглер придерживался другой точки зрения. Он считал, что культура-это вместилище всего лучшего в человеке, а цивилизация связывается только со стандартизированным массовым производством. По Шпенглеру цивилизация - высшая стадия культуры, на которой происходит ее окончательный упадок, а культура - это цивилизация, не достигшая своей зрелости и не обеспечившая своего роста.
Шпенглер выделил восемь культур. Каждая из них проходит за период своего существования ряд стадий и, умирая, превращается в цивилизацию. По его мнению, переход от культуры к цивилизации означает упадок творчества, героических деяний; подлинное искусство оказывается ненужным, торжествует механическая работа. Таким образом, О. Шпенглер отрицая взаимосвязь и преемственность в развитии культуры. Однако я с мнением Шпенглера не согласна. Свою работу 1913 года Шпенглер назвал
«Закат Европы». Тем не менее, за последний век европейская цивилизация не только не погибла, но ступила на более высокий уровень развития. Я считаю, что с точки зрения науки не стоит отождествлять культуру и цивилизацию. Мне больше нравится высказывание Н. Рериха о том, что культура - это душа, это ядро цивилизации, духовные ценности, а цивилизация - это тело, те какие-то технологические рамки, в которых живет душа.
Приведем аргументы. Ни одна цивилизация не может существовать без культуры, как тело не может существовать без души. Когда душа покидает тело, оно умирает. Поэтому, точнее сказать, когда умирает культура, умирает и цивилизация.
Приведем примеры. Когда в древнеримской цивилизации в качестве государственной религии было принято христианство, которое противоречило римской культуре, римская цивилизация погибла. Когда коммунистическую идеологию СССР попытались заменить на либеральную, Советский Союз распался.
Таким образом, культура и цивилизация, по моему мнению, - понятия несколько
различающиеся, но тесно взаимосвязанные. С парадоксальной точкой зрения Шпенглера согласиться нельзя.
Философия.
«Без борьбы нет прогресса» (Ф. Дуглас)
В основе существования вселенной лежит принцип конфликта, именно он заставляет изменяться мир вокруг, заставляет его существовать, гореть и потухать, поэтому главным источником существования, был огонь. Миру всегда присуща критическая двойственность, антагонизм форм. Этот антагонизм - как приводные ремни мотора, заставляют мир существовать из небытия и статичности. Вечный источник жизни – Бог. Необходимость, которая определяет жизнь - судьба. Иными словами, утверждение, что в основе существования лежат позднейшие принципы законов диалектики. Борьба – это единство противоположностей. Без борьбы - нет прогресса. Что такое прогресс? В этом вся суть вопроса.
Прогресс – это направление развития от низшего к высшему, поступательное движение вперед, к лучшему. Мы заочно связываем слово прогресс с качественным улучшением, в какой либо области существования. Если исходить из данной формулировки, прогресс как любое движение из точки А в точку Б, должен сменить положение статичность или перемещение и получить импульс. В данном случае, по мнению Дугласа, этот импульс развития - борьба.
Итак, качественные изменения - следствие борьбы. Отсюда следует, что любое развитие зависит от внутренних изменений. Закон диалектики – это взаимный переход количества в качества. Мы видим два закона диалектики, которые содержат взаимосвязь. Без борьбы - нет прогресса. Следовательно: прогресс рождается из борьбы.
«Вам не удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов». (Ж.-Ж. Руссо)
Я думаю, что автор хотел указать значение игровой деятельности в жизни человека, отметить, что игра в жизни человека занимает важное место. В процессе игровой деятельности человек может овладеть новыми знаниями. И я с этим совершенно согласна.
Мудрецами не рождаются, мудрецами становятся в ходе активной деятельности.
Известно, что деятельность - это специфически человеческая форма взаимодействия с окружающим миром. Любой из нас - и мудрец, и шалун - в процессе деятельности познает мир, создает необходимые для собственного существования условия, духовные продукты, а также формирует самого себя (свою волю, характер, способности). Таким образом, шалун через характерную для него активную деятельность познает мир и делает соответствующие выводы для себя. Шалит, значит, играет.
Мне понравились слова немецкого поэта и философа Ф. Шиллера: «Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет». Действительно, игры сопровождают человека, на протяжении всей истории развития человеческого общества. Играя, маленький мальчик разбил стекло, теперь он знает, что стекло хрупкое. В ходе игровой деятельности ребенок не только познает мир, но и учится трудовым навыкам. Так моя сестренка очень любит плескаться в тазике и стирать белье вместе с мамой и позже ей это поможет в жизни. В ходе игры человек учится общаться. Так, играя в «дочки - матери», дети усваивают социальные роли матери и ребенка. И главное - в игре всегда присутствует творчество как создание чего-
то нового (ведь скучно повторять дважды одну игру), а творческая деятельность есть высшее проявление человеческой сущности.
Таким образом, я считаю, нельзя наказывать за игры ребенка, а надо поддерживать детей, трудиться вместе с ними, играть вместе, познавать окружающее и тогда они станут мудрецами.
«Каждый великий успех науки имеет своим истоком великую дерзость воображения». (Д. Дьюи)
Вначале дадим определение науки. Наука-это систематизированные взгляды на окружающий мир, воспроизводящие его существенные стороны в абстрактно-логической форме и основанные на научных исследованиях. Каким же образом происходят открытия в науке? Чаще всего оно имеет следующую последовательность: гипотеза (выдвижение версий), далее следует либо эксперимент, либо теоретический уровень (математическое моделирование или математические расчеты), затем формируется теория (закон науки, который позволяет объяснить и предсказать явления). Видимо Д. Дьюи имел в виду, что если не будет выдвинута гипотеза, то и не будет выведено закона науки. И с этим я абсолютно согласна.
Очень яркими, на мой взгляд, примерами дерзости являются утверждения Дж. Бруно, Г. Галилея, что земля круглая, и она вертится. Это действительно было дерзостью в их времена, расходилось с учением католической церкви о том, что земля плоская и вокруг нее вертится Солнце. Каждого, кто сомневался, ждал костер инквизиции. Если продолжить эту тему, то путешествия Магеллана тоже были дерзостью, желанием доказать через кругосветное путешествие, что земля круглая. И он это сделал. Очень многие открытия в географической науке были следствием великой дерзости путешественников. Поэтому девиз «Дерзайте» всегда будет актуален, еще много в мире неизведанного, неоткрытого.
«Как значимы эмоции и чувства! Это ветры, надувающие паруса корабля. Они его иногда топят, но без них он не может существовать» (Вольтер)
По моему мнению, высказывание Вольтера, известного поэта и философа, о том, что эмоции и чувства играют немаловажную роль в жизни человека, верно и основано на логических умозаключениях. Вольтер хотел сказать, что без эмоций человек просто не может существовать, как личность, индивид. Лишь при тяжелых психических заболеваниях все чувства могут пропасть, наступает апатия. У здорового человека апатии как таковой не бывает.
Слово «эмоция» знакомо каждому. А вот его научное определение: эмоция – это психический процесс, отражающий отношение человека к самому себе и окружающему миру. Я читаю, и книга мне нравится или не нравится, я что-то делаю, и то, что я делаю, мне нравится или нет, я вынужден с кем-то общаться, и тот, с кем я общаюсь, мне нравится или не нравится. В то же время в каждой ситуации я доволен собой или недоволен. Бывают, правда, такие моменты, когда мне все безразлично.
Когда мне что-то нравится, то возникает положительная эмоция, когда не нравится – отрицательная. Если мне все безразлично, то становится скучно, а скука приводит к раздражению, а это уже эмоция. Полное отсутствие эмоциональности является признаком такого тяжелого психического заболевания, как шизофрения. Эмоции возникают по разным причинам. Это и завершенное дело, и потеря друга, и лишение
каких-либо благ, и чтение книги и мн. др. Когда появляется эмоция, изменяется не только внешний вид человека, но и деятельность внутренних органов, обменные процессы, состояние нервной системы.
Человек запрограммирован на счастье. Он обязан быть счастливым, если хочет быть здоровым, активным и долго жить. По этому поводу можно провести сравнение человека с автомобилем. Человек, не имеющий соответствующей эмоциональной пищи, как автомобиль, который заправляется не тем горючим, быстро изнашивается, двигается с медленной скоростью по жизни, его часто приходится «ремонтировать» во время многочисленных болезней.
А для чего нужны отрицательные эмоции? Если их не чрезмерно много, они стимулируют нас, заставляя искать новые решения, подходы, методы. Ведь отрицательные эмоции возникают тогда, когда наша деятельность не дает нужных результатов.
Таким образом, можно сделать вывод, что любая эмоция играет определённую для неё роль и не может игнорироваться со стороны человека, как ничего не значащая. Что – же касается меня, то с мнением Вольтера я согласен и считаю, что человека без эмоций можно уподобить выжженной пустыне, ибо по сути он таковым и является.
«Наука не сводится к сумме фактов, как здание не сводится к груде камней». (А. Пуанкаре)
Эссе №1
Наука является одной из форм духовной культуры. Увеличение, дальнейшее совершенствование научных знаний во многом определяет развитие материального производства, социально-экономических отношений и духовной жизни, то есть всех сфер общественной жизни. Причем роль научных знаний постоянно возрастает.
Что такое наука? Наукой принято называть теоретически систематизированные взгляды на окружающий мир, воспроизводящие его существенные стороны в абстрактно- логической форме и основанные на научных исследованиях. Наука - это система знаний о закономерностях развития природы, общества и мышления, а также отдельная отрасль таких знаний. Уже в самом определении термина «наука» говорится о систематизации знаний. Суммой фактов можно назвать хронику событий, но никак не науку, т.к. это противоречит принципу вытекания одного из другого, упорядоченности знаний. Если допустить обратное, получается абсурд. Примером является утверждение, что здание - это груда камней. Я считаю, что автор проводит параллель, чтобы более доступно раскрыть значение науки.
Цели науки - описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности. Для научного познания характерно стремление к объективности. Но главное - это системность научных знаний. Приведем такой аргумент: когда в 5-7 классах мы изучали математику, ботанику, физику, казалось, каждая наука существует сама по себе. Но в 11 классе все науки стали сливаться, знания по математике стали помогать в физике, физические знания - в химии, химические - в биологии и т. д. Каждый кирпичик стоит на свои месте, и появляется целое здание - научная картина мира.
Я считаю правильным утверждение Анри Пуанкаре, поскольку приводимые факты нужно еще обобщить, объединить в стройную систему, как и груду камней. Ученые не просто собирают факты. Они сравнивают их, выявляют общие признаки и отличия и на основании этого систематизируют полученные знания. Подобным образом шведский натуралист Карл Линней на основе сходства по некоторым наиболее заметным признакам классифицировал организмы по видам, родам, классом. Англичанин Томас Юнг дал объяснение явления дифракции. Можно приводить множество примеров и из других областей науки. Но везде слова Пуанкаре будут находить только подтверждение.
Эссе №2
Очень интересно высказывание Анри Пуанкаре. Он сравнивает здание и науку. Казалось бы, что общего у них может быть. Наука является одной из форм духовной культуры общества, а ее развитие – важнейший фактор обновления всех основных сфер жизнедеятельности человека. Цель науки - описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности, т.е. ее теоретическое отражение. Язык науки
существенно отличается от языка других форм культуры, искусства большей четкостью и строгостью.
Наука - это мышление в понятиях. Научные знания необходимы в нашей жизни. Даже в античные времена научные достижения, хотя и были ограничены, но уже тогда многие из них использовались в земледелии, строительстве, торговле, искусстве.
Действительно, для подготовки к строительству дома необходимо приобрести
строительные материалы. Но дом сам собой не построится, для этого нужно приложить усилия: заложить фундамент, воздвигнуть стены и т. д. В науке мало знать факты, их необходимо объяснить. Возьмем такой пример. В науке известны такие открытия, как паровой двигатель. Данное открытие не осталось в истории просто фактом, а получило дальнейшее развитие. Физика обобщила этот богатый опыт, и появился раздел
«классическая термодинамика».
В науке выделяют два пути развития: постепенный и через научные революции. Строительство дома схоже с первым путем развитием науки, ведь дом не может быть построен, если не будет последовательности. Так, Герц открыл электромагнитные волны, а русский ученый Попов на их основе изобрел радио. Таким образом, как здание воздвигается, опираясь на фундамент, а далее ложится камень на камень, так и в науке - сделав научные открытия, ученые стараются доказать их научную ценность через практическую деятельность. И я полностью согласна с этим утверждением.
Эти слова сложно было бы понять, не зная их автора. Но зная, что автором этого высказывания является Ньютон, один из самых выдающихся ученых человечества, мы можем понять их смысл. Я думаю, «гигантами», на плечах которых стоял Ньютон, были ученые-предшественники, а также полученное образование. Образование - это целенаправленная познавательная деятельность по получению знаний, умений, навыков либо их совершенствование. Ньютон был выдающимся физиком, механиком, астрономом и математиком. Именно знания, которыми обладал Ньютон, позволили ему видеть дальше других и открыть свои законы в физике, математике и астрономии. Он должен
был усвоить знания, которые были известны до него. Эти знания послужили лестницей к плечам гигантов. Этой лестницей для Ньютона послужил Кембриджский университет, где он получил основное образование. Большую роль сыграло и самообразование.
Полученные в университете знания об открытиях Коперника, Галилея, Декарта, Гюйгенса были позже уточнены и обоснованы Ньютоном. Закон о всемирном тяготении обосновал геоцентрическую систему мира Коперника, а три закона Ньютона завершили труды Галилея, Декарта, Гюйгенса и других физиков. Вряд ли Ньютон смог открыть эти законы, будучи незнаком с учениями предшественников. Это говорит об одной из моделей развития науки: модели постепенного развития. Сущность модели выражена в
утверждении, что истоки любого нового знания можно найти в прошлом, а работа ученого должна сводиться лишь к внимательному изучению работ своих предшественников. И каждый из нас способен взобраться на плечи гигантов и увидеть дальше других. Ведь окружающий мир не познан до конца. И приблизиться к полному познанию мира можно, лишь получив образование и применив полученные знания для создания собственных научных теорий, которые могут стать достоянием всего человечества.
«Мы были достаточно цивилизованны, чтобы построить машину, но слишком примитивны, чтобы ею пользоваться» (Карл Краус)
Высказывание Карла Крауса, австрийского писателя, о том, что «мы были достаточно цивилизованны, чтобы построить машину, но слишком примитивны, чтобы ею
пользоваться», верно, и сохраняет свою актуальность в нынешнее время, поскольку сейчас, как никогда встаёт вопрос о взаимодействии человека и техники, природы и цивилизации.
Научно-техническая революция выдвинула на передний план проблему применения техники нового типа. Следует отметить, что развитие техники шло не только по пути ее усложнения, но также и в направлении повышения ее качества и надежности работы. Все те преимущества, которые были достигнуты благодаря техническому усовершенствованию машин, практически часто сводились на нет неточными, несвоевременными действиями человека. А всё потому, что эта техника делала возможным решение принципиально новых задач, но при этом создавала для человека совершенно новые условия труда. Присущие новой технике сложные процессы, требовали от человека такой скорости восприятия и переработки информации, которая в некоторых случаях превышала его возможности. Если к тому же учесть, что подобные задачи приходилось решать в необычных или экстремальных условиях (например, на самолете в условиях перегрузки, недостатка кислорода и пр.), в условиях высокой ответственности за успех работы (например, на производстве, где цена ошибки очень высока), то станет очевидным, сколь существенно изменились условия жизнедеятельности человека за последние десятилетия.
Всё больше и больше природа становится объектом технологической эксплуатации, она утрачивает священный характер. Укрепляется идея, высказанная Бэконом: «Знание – сила». Однако далеко не всё, что изобрёл человек пошло ему на пользу. К примеру, открытие ядерной энергии позволило людям сберегать природные ресурсы и в то же время стало причиной массовых разрушений и смертей. В результате это, вроде - бы мирное открытие породило такую глобальную проблему, как опасность мировой ракетно- ядерной войны.
С высказыванием Карла Крауса я полностью согласен и делаю вывод, что причиной низкой эффективности новой техники являлся не человек, который своими ошибками препятствовал ее успешному применению, а сама техника, которая была создана без учета психофизиологических возможностей управляющего ею человека и фактически провоцировала его ошибки. Это лишний раз доказывает, что человек слишком примитивен, чтобы в полной мере использовать созданную им - же технику.
Весьма интересная аналитическая записка получена Осьминогом из Академии Небополитики. Она создана полковником Девятовым специально для доклада в высокие инстанции к исходу июля 2009 года. Имеет пометку: конспект поучений и смыслов троичной гармонии веждизма. Для лучшего понимания этого текста редакция Осьминога настоятельно рекомендует читателям ознакомиться с текстом «Догматика веждизма. Где начало? В чем принцип? Что такое время?», опубликованным на Осьминоге .
Вежды по-русски – это веки. Ве-Ж-дизм в значении букв кириллицы есть, ни что иное, как «Ведение Жизни». Или иначе «живые знания». Или взгляд ЗА ВЕК. Тогда как ведизм есть всего лишь «хранилище знаний», библиотека прошлого, где собственно рождения новой жизни (живота) нет. Одна буква Ж, а какое различие!
ВеЖдизм: – это разведка Правды на Пути Истины; – это футурология Надежды в помощь вероучению любви; – это философия Справедливости для практики гармонии мира. В сумме функций, веждизм – это идеология троичной гармонии , порожденная парадоксальным (троично-асимметричным) типом мышления русских, демонстрирующая странам и народам интеллектуальный суверенитет России. Веждизм создает новый мир внутри нас, упреждая разрушение реального мира вне нас. Веждизм дает установку на моральную победу, модель поведения и идеал политики как «реальную утопию». Идеал Веждизма – Белое царство Правды.
1. «Дух Истины говорит через пророков»
В мифах и сказках русского и особенно нерусских народов России, по многим пророчествам и предсказаниям провидцев, Россия в предконечные времена «века сего» на короткое время, примерно 12 лет (по расчетам: 2015-2027) преобразится в «Царство Правды» с предреченным именем «Держава Белого Царя».
Толкование ветхозаветной Книги пророка Даниила позволяет говорить о том, что предконечные времена («последние дни гнева») наступили в 1967 году, когда Храмовая гора в Иерусалиме вновь перешла под контроль государства Израиль. А «Царь Правды» (Белый Царь) уже родился в 1959г. Этот человек выдающейся интуиции и глубокой мудрости должен быть призван на царство верхушкой государственного управления многонациональной страны и станет предтечей «второго славного пришествия» Спасителя мира, внедряя в политическую практику «Всеобщий Закон Мироздания» (универсальный стандарт троичной гармонии).
По утверждениям раввината хасидов Машиах (он же Махди, он же Христос, он же Помазанник, он же Мессия, он же Вестник «будущего века» и «конца мира сего») уже родился в 1995 году и должен проявится в возрасте 33 лет (1995 + 33 = 2028) в «Славном пришествии». Для иудеев это Славное пришествие, по словам апостола Павла, значит, что «весь Израиль (семья Божия) спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова» (Рим. 11.26).
По многим признакам, предреченное Священным Писанием «новое небо и новая земля, на которых обитает правда» (2 Петр 3:13), наступит в 2040-2044 гг.
В современной терминологии это событие называется «антропологический переворот». Ученые увязывают его с астрономическим фактом: переходом оси прецессии планеты Земля из космической эры Рыб (длилась 2160 лет с 148 г. до н.э. по 2012 г. н.э.) в космическую эру Водолея (начнется с 2013г.) и соответствующими изменениями энергетических полей планеты.
Поэтому-то «Белое Царство Правды» в России, идеологию, этику и политическую практику которого излагает веждизм, и призвано среди миражей лукавого мудрствования «удерживающих» порядки «века сего» стать маяком на пути народов в «царство будущего века», которому уже не будет конца.
2. Основное противоречие современной картины мира

Человек живет в конкретной общественной среде, ограничивающей рамками приличия как его личную свободу (великодушие, благодушие и прямодушие в позитиве; и малодушие, простодушие и равнодушие в негативе), так и вольную волю (самоволие, своеволие и произвол). А именно, рамками стыда, совести, чести, долга, жалости или сохранения «лица», в зависимости от типа мышления и специфики национальной культуры.
В глобальном масштабе общественная среда, как единое человечество, по Закону Мироздания раздваивается. В числе единое раздваивается на чет (– –) и нечет (-).
Раздвоение общественной среды в северном полушарии планеты Земля олицетворяют: Средиземноморская цивилизация в пределах «четырех углов земли»; и Срединно-земельная цивилизация «в пределах четырех морей». Это одна из главных диалектических пар геополитической картины глобального мира.
Средиземноморская цивилизация как «упорядочение стихии мыслью и обуздание инстинктов тела нормой и запретами канона» берет начало в Вавилоне («баб-илу» — врата бога, упоминается уже около 2800 до н.э.). Продолжается в Египте. Набирает силу в Греции. И получает развитие в Риме: Первом (нынешняя Италия), Втором (Византия) и Третьем (Русь от Ивана Грозного до Петра I Великого). Это были «звериные царства»: бездуховности Вавилона, ненасытных желаний и роскоши Египта, гедонизма и индивидуализма Греции, государственной тирании Рима.
Во времена «вавилонского пленения» евреев (VI век до н.э.) у них появилась каббала: «вавилонская мудрость» или «алгебра мысли для толкования Закона» и зародился иудаизм: религия Единого Бога еврейского народа Иеговы (Яхве), распоряжающегося судьбой всех народов мира. Основу канона средиземноморской цивилизации составляет «Пятикнижие Моисея» (Дар Торы). Нравственное чувство здесь имеет божественную природу. Носителем «Завета» (договора людей с Богом на земле) выступает «дом Иакова» или иначе «колена Израилевы» (рассеянный по странам и континентам еврейский народ). Конечная цель Синайской доктрины Моисея (1531г. до н.э.) состоит в том, чтобы «дом Иакова» принес всем людям «Свет исправления» эгоистических мыслей. А с приходом эры «Света и милосердия» (космическая эра Водолея), «пас народы мира как бесчисленные стада по Завету Всевышнего». Израильский царь Соломон, в 1004 г. до н.э. поставил доктрину Моисея на практические рельсы: составил план на перспективу 3000 лет. Цель Плана Соломона – мирный приход евреев к глобальной денежной власти осуществлен к 1995 году. Впереди завершение глобализаци, вразумление суровыми наказаниями и духовное прозрения «Высшего мира».
Собирательное имя библейско-средиземноморской цивилизации: «Запад».
Срединно-земельная цивилизация как «свет от имен и символов письма» (вэнь-мин) принадлежит Китаю: Срединному государству монолитной нации желтых людей (по писанию первопредок китайцев Фуси – «покоряющий солнце» жил в 2852-2737гг. до н.э.). Основу канона у китайцев составляет «Пятикнижие Конфуция» (истолкование письменной традиций великих предков: строгой общественной иерархии, силы Духа, почтения к старшим и любви к младшим, было сделано этим мудрецом в VI – V веках до н.э.). Нравственное чувство «лица» у китайцев диктуется безличным Небом (личного Бога и самого иероглифа Бог в китайском языке нет). А страна, где с 1148 г. до н.э. император носил титул «Сын Неба» (ныне председатель КНР) называется «Поднебесной империей». Конечная цель глобальной доктрины Срединного государства желтых людей (средоточия культуры) в отношении всего остального окраинного мира (варваров) состоит в исправлении диких нравов народов периферии. В том чтобы посредством четкого соблюдения ритуалов и нравственного влияния совершенномудрых, подобно исходящим от Центра концентрическим кругам по воде, цивилизовать внешний мир под себя. В том, чтобы окультурить корыстные и грубые народы окраины до состояния покорного подчинения образцам честного поведения, с поднесением Китаю «даров местных продуктов». Эта конфуцианская доктрина культа предков и всеохватной власти Срединного государства над всеми народами, кто под Небом, называется «гармония умиротворением». В 2005 году «гармония мира» была назначена целью политики КНР (Срединного государства эпохи восьмого «малого процветания») достичь которую планируется к 2019 году.
Путь Запада лежит в чете: это земной рационализм. Движение поступательное, в погоне за современностью, усовершенствованиями и приспособлениями белых людей (выше, дальше, быстрее). Запад — это цивилизация знаков (буквенное письмо). Это абстракции и мессианство. Это западная демократия. Товарная экономика. Желания и спрос. Это модерн и прогресс. Это двоичная этика добра и зла. Это диалектика борьбы противоположностей (балансы и противовесы, разводки и растяжки на два полюса в управлении поведением людей). Это «великая шахматная доска» как модель мировой политики, где «белые», играя против «черных», начинают, захватывают инициативу и выигрывают наступлением.
Недвижный Китай лежит в нечете: это мистика Воли Неба. Движение здесь вращательное, витками вокруг центра, который занимает Срединное государство желтых людей. Китай – это цивилизация символов (иероглифическое письмо). Это конкретика и прагматизм. Это восточная деспотия и азиатский способ производства, где «нет желаний – нет и страданий». Это перемены в циклах. Это троичная этика: земля, небо и человек между ними, где технический прогресс запада всего лишь «развитая дикость». Это связки трех сил и троичная гармония. Это стратагемы (бесконечный путь хитрости) в управлении поведением людей. Это «карточный стол истории», как модель многополярного мира, где можно пропустить ход, сделать прорезку на другую масть, побить любую карту джокером и, если и не выиграть, то и не проиграть вчистую.
С конца ХХ века, на переходе человечества через постиндустриальный барьер, «Запад», применяя в политике модель игры в шахматы, разыграл партию: США против СССР. СССР партию проиграл и в 1991 был распущен. На развалинах СССР, Новая Россия естественным ходом вещей перешла в пассив мировой политики.
В начале XXI века «Запад» в лице США предлагает Китаю разыграть очередную партию в шахматы под названием «G-2». Китай же, имитируя партию в шахматы с США, на самом деле в 2012 году «черного дракона» в новом раскладе карт мирового могущества, намеревается заказать на себя карточную игру с ведущими игроками многополярного мира и обыграть США не на «великой шахматной доске», а за «карточным столом истории».

3. Удел России – Всемирность в Законе Всевышнего
Что же касается России и её цивилизационной роли на переходе человечества в «царство будущего века», то во исполнение пророчеств она в срок до 2015 года должна сделать три принципиальные вещи.
Во-первых, отказаться от активного участия в геополитике глобализма, все равно в библейско-средиземноморском или срединно-земельном варианте, ибо глобализм есть доктрина пространства, а в историческом масштабе побеждает не тот, кто контролирует пространство, а тот, кто захватывает время.
Во-вторых, смириться с тем, что наследницей Запада в качестве «Третьего Рима» Святая Русь XV – XVII веков уже была. Время это давно прошло. По пророчествам «Четвертому Риму не бывать». А потому Новая Россия в качестве «Белого Царства Правды» должна распрощаться с византизмом, исправить имена, усилить ритуалы, сменить государственные символы, объявить себя не евро-атлантической «страной заката», а азиатско-тихоокеанской «страной восхода» и нести народам мира предреченный в предконечные времена спасительный «Свет с Востока».
В-третьих, концентрическую доктрину «гармонии умиротворения» народов по горизонтали накрыть доктриной троичной «гармонии соответствия» земли и человека небу: (Всеобщему Закону Мироздания) по вертикали и так исполнить миссию обуздания безудержной силы «дракона» (мирного одоления Китая) правдой.
Веждизм, как идеология, этика и методология грядущего Белого Царства Правды в России, сформулированный «разумными от народа» в 2005-2009 гг. обосновывает обнадеживающий, иначе возможный, праведный порядок на земле, практика достижения которого имеет имя небополитика.
Небополитика предусматривает превращение России в выгодополучателя геополитического противоборства США и Китая. Это политика перевода доктрины глобализма (контроля пространства) по горизонтали в практику универсализма (соответствия волне времени) по вертикали. Это политика перехвата исторической инициативы маневром вверх (русские – народ-богоносец) с опорой на горькую правду, справедливое наказание зла и Дух Истины «говорящий через пророков».
Полковник Девятов Андрей Петрович, постоянный заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия (ИРКСВ)
По заказу инстанции, 25.07.09